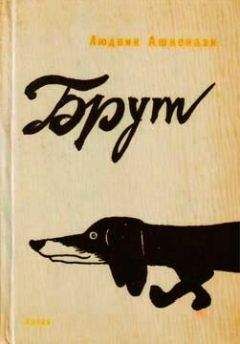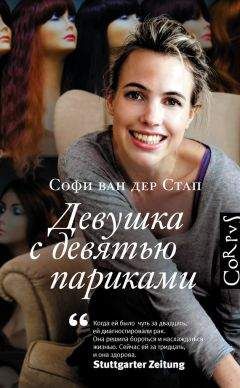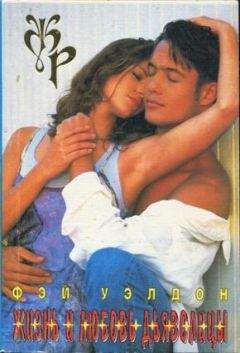В клетках испуганно попискивали канарейки, у попугаев были старые и понурые взоры, золотые рыбки нервозно кидались от стекла к стеклу. И было великое светопреставление.
Не умолкали лай и мяуканье, верещание и писк. И старый делопроизводитель из городского магистрата, уполномоченный произвести перепись домашних животных, взглядом военачальника окидывал стоящих кучками израэлитов и принадлежащих им тварей. И с горечью говорил себе: «И надо же! В апреле на пенсию, теперь со мной случится такое…»
Потом он вспомнил про казарменный плац в Младой Болеславе и решил внести в этот хаос порядок, хотя бы немного подобный воинскому.
— По двое становись! — закричал он голосом большим и фельдфебельским. — Собаки с собаками слева, кошки с кошками в другом углу, птицы вперед, рыбы назад, прочая мелюзга — ждать в коридоре. И попрошу имена и фамилии! Местожительство и вероисповедание отставить, разговорчики — тоже! И приготовить родословные, только собак!
А потом уселся за деревянный письменный стол, над которым было небо, выглядевшее, как покрашенный синим потолок в большой казенной канцелярии…
Наименьшую дисциплинированность проявили собаки. Они не были знакомы друг с другом и должны были обнюхаться. Делали они сие церемонно и с большой увлеченностью. И больше всего вокруг ушей, на кончике мошонки и еще дальше сзади. Пес Брут нашел только одну суку, которую счел достойной себя. И сразу же и без околичностей дал ей это понять. Оказалась ею как раз та крапчатая далматинка, псица чрезвычайно утонченная, с мягкими и плавными движениями.
— Что здесь творится? — спросил ее Брут, коротко тявкнув.
— Не обращай на них внимания! — ответствовала псица. — Займись-ка лучше мной. Да поживей!
Между тем очередь недостойных владельцев домашних животных продвигалась к столу из некрашеных досок, за которым восседал уполномоченный магистрата города Праги. Как раз сейчас перед ним стояла миниатюрная, несколько неестественная в движениях старушка, одетая, как в большой праздник, с кокетливой вуалеткой под шляпкой, пылающая румянцем, правда, высеченным из искусственного огня.
— Ему уже будет сто тридцать семь, — говорила она делопроизводителю, — а ел он ровно в семь, в двенадцать и шесть. Будьте добры, припишите это, пожалуйста, — власти третьего рейха, они оценят аккуратность.
А ее старый зелено-желтый и безмерно мудрый попугай смотрел из клетки стеклянными глазами, такими пустыми, что по всей вероятности он единственный понимал ход истории. Потом медленно поднял голову и выкрикнул голосом, почти человеческим:
— Мешугене идэне, verrückt![1]
И безмолвно созерцал, как его позолоченная клетка очутилась возле шестнадцати других.
Старушка ушла семенящими шажками и только на улице заплакала в батистовый платочек. А после еще издали таинственными жестами давала попугаю инструкции на дорогу. Домой ей не хотелось, по-видимому она уже давно не была на людях, это было для нее большим и волнующим выходом в свет. И она еще долго утешала многих опечаленных женщин, особенно бездетных.
— Животное вам никто не заменит, — говорила она им. — У человека, пани, у того никогда не знаешь, что он к тебе питает.
После двух ехидных такс и изумительной, с переливами, но злющей ангорской кошки подошла очередь немецкой овчарки Брута. Он обнюхал стол и установил, что когда-то давно в нем долго держали печеночный паштет. Затем занялся делопроизводителем, но вынесенное от него впечатление оказалось у Брута, в общем, неважным. Наконец он даже с удовольствием убежал в сад, где его уже ожидала утонченная далматинка. С Хрупкой он не попрощался, хотя знал, что такое прощание, — просто не увидел к нему причины.
А Хрупкая, которая уже пережила в жизни много прощаний и много разлук, помогла еще одному пожилому господину помирить двух попугайчиков, повздоривших совсем некстати и не на жизнь, а на смерть; и обождала еще чуточку, — может Брут на нее посмотрит? Она окликнула его, но пес не слышал, потому что стоял большой гвалт. Тогда она ушла, — и у нее не защемило внизу живота, как это бывает, когда расставание мучительно… на высоких каблуках, чуть презрительная к себе за одну промелькнувшую было мысль, которая казалась унизительной: Хрупкая подумала, какой вкусной была бы колбаска, что съел Брут, поджаренная к ужину.
Ее не звали Хрупкой. Ее настоящее имя было Ружена Вогрызкова, «Торговля старым железом на Либеньском острове»; потом она вышла замуж за классического филолога, и не слишком удачно. Он нашел в ней классические формы, она в нем — несколько педантичную любовь к Ружене Вогрызковой. И в один прекрасный день она ушла, и как раз в войну, когда не было разумно уходить от мужей, в общем, правда, довольно-таки никчемных, но зато с хорошим происхождением. Вместе в ней ушел пес Брут, немецкая овчарка с блестящей родословной. Пожалуй неуместно подчеркивать, но его она уважала много больше, чем классического филолога. За то, что на него можно было положиться, за его мускулистость и подспудную хищность. Ружена всегда его немного побаивалась, но никогда не показывала вида, и это еще более укрепило их отношения.
Первую ночь без Хрупкой Брут прожил спокойно. Случилось лишь то, что перед сном он сделал такое, что, бывало, делал щенком, но уже никогда после. Прежде чем лечь, он три раза покружился на месте — по обычаям своих предков, которые так приминали высокую степную траву. Произошло это, может, оттого, что ночь была лунной и что после длительного перерыва он впервые спал без крыши над головой и в обществе других собак.
Брут лежал возле далматинской суки и согревал ее, потому что шерсть у него была длинней и грубей. Он полубодрствовал, залитый белым лунным сиянием, с мордой настороже; отделял один от другого запахи, ароматы, и искал те, которые знал и любил. Однако их не было. Даже в помине.
К утру несколько собак завыло. Не от тоски, пока и не от голода, а со скуки. Брут не присоединился к ним, но слушал с наслаждением и чувствовал себя так, как если бы по его телу пропускали неведомый, удивительный, дразнящий и возбуждающий ток.
Это звучало как призыв и клич, и вместе с тем как вызов.
Но Брут знал, что это городские собаки, а один фокстерьер даже с той улицы, по которой он каждый день ходил за булочками. Знал, что фокстерьера не манят дали. В ту ночь Бруту снова снился сон про почтовую кобылу, глубоко в горле он рычал и лаял, и далматинка всем телом прильнула к его боку.
Животные на нарушали тишины; только один одинокий и угрюмый кенар, клетку которого некому было прикрыть, пускал трели, скорее по привычке, нежели от радости…