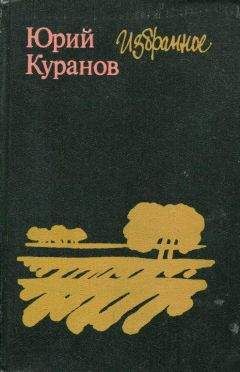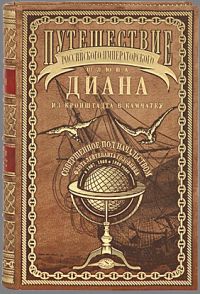Антонина подошла к девочке, отогнула край одеяла, и та замолкла. Анатолий стоял над ними. Глаза дочери как бы искали что-то перед собой, потом уставились в небо и, темные, заголубели его далеким отсветом. Девочка улыбнулась.
— Пойдем, не мешай ей, — сказала Антонина.
Она распрямилась. Вспотевшая. Тоненькая. Усталая.
— Что-то голова иногда кружится, — сказала она.
— Чудачки вы мои две маленькие, — сказал Анатолий и тихо тронул ее плечи.
Антонина взяла его руки, прижала их ладонями к своим щекам и спрятала лицо.
— Чудачки вы, — сказал Анатолий.
— Пойдем отсюда, — сказала Антонина.
— Пойдем.
Он взял ее руки, прижал их к своим щекам, потом обернулся, отыскал глазами топор, поднял его с земли.
— Оставь его здесь. Никто не возьмет, — сказала Антонина.
Она вытянула из-под дочери полотенце, перекинула его через плечо.
— Подай Катюшку.
— Я сам понесу. — Анатолий поднял дочь и осторожно зашагал из леса.
Прямо на опушке дорога распадалась: одна уходила от росстани к хутору, вторая шла прямо к оврагу, которым недавно пришел Анатолий. Анатолий свернул было к хутору, но Антонина свернула к оврагу.
Они шли медленно, не оглядываясь, и только Антонина иногда останавливалась, чтобы поправить на девочке платок или просто посмотреть на нее. Катюшка спала, и тоненькие прозрачные веки ее вздрагивали. Брови у нее были еще бесцветные, но чувствовалось, что они будут густые, как у бабки. Сумерки неторопливо собирались в глубине перелесков, сильно запахло перестоявшей травой. Где-то в стороне тонко засвистел рябчик, словно дул сквозь игольное ушко.
— Почему у вашего хутора такое странное название? — сказал Анатолий. — Езиковы норы.
— Когда здесь селились наши, — сказала Антонина, — это, верно, лет сто назад было, барсуки здесь жили. А барсуков тогда езиками звали.
— Так ведь и в других местах барсуки здесь водились?
— Водились.
— А что же тех не назвали?
— Не все же езиками были.
Прошли овраг и поднялись на равнину.
— Надоела мне эта езиковая жизнь, — сказала Антонина.
Анатолий промолчал.
— Куда ей все это, — сказала Антонина, — и так здоровья мало, а все копает, косит, тащит, как в нору. Будто у нее семеро по лавкам. Ни себя, ни других не жалеет.
Анатолий шел молча.
— И этот Гришка вьется как лис. Тоже език порядочный. Днем в бригаде трудодни нарабатывает, а ночью корье за огородом дерет. Тыщи на три уж надрал. Всю иву извел. С себя бы, кажись, содрал кожу, лишь бы заплатили. Слава богу, что я за него тогда не пошла. Мы ведь с детства вместе были.
— А что это за хутор? — спросил Анатолий.
— Это Луга. Хороший хутор. Здесь такое пиво варят, и молоко у коров здесь жирное. Хороший хутор Луга.
Антонина помолчала.
— Ты как ушел от нас, — начала она снова, — так она меня и из дому никуда не пускала, все я только пряла да ткала, как русалка какая.
Дорога широким полем низко пошла под гору. Где-то далеко торопилась машина, и гул ее был похож на густое дребезжание оконного стекла на ветру.
— Работать пойду, — сказала Антонина. — Давай я тоже на машиниста окончу. Или телеграфисткой стану.
— Телеграфисткой можно, — сказал Анатолий. — У нас такие курсы тоже есть. И почта от моей квартиры недалеко.
Вечернее солнце затопило поле ровным красным светом, и ранняя осенняя листва пробила чащи дальних лесов алыми частыми вспышками. Здесь и там виднелись вдоль дороги хутора, одни забытые, пустые, другие с длинными обветренными домами и широкими свежими срубами.
— Здесь тоже хутор был? — спросил Анатолий.
— Хутор.
— Его как-то забавно называли?
— Свирипяги здесь жили, — сказала Антонина.
Этот хутор зарос крапивой. Дома свезли, и только там, где таились старые колодцы, еще тесно росла малина. В чаще такого малинника легко влететь в густую ледяную воду с едким привкусом железа.
Из-за дальнего леса обозначился впереди город. В окнах его не то еще плавилось солнце, не то уже вспыхнули первые лампочки. Бегали крошечные паровозы, дымили, покрикивали и исчезали направо и налево.
На самой дороге между лесом и городом стояла длинная высокая деревня с белыми свежими домами. В ее окнах тоже горел свет.
— А что это за деревня? — спросила Антонина. — Вроде бы ее не было.
— Это Корабли, — сказал Анатолий. — Корабли ее назвали. — Он усмехнулся. — Садись и плыви куда хочешь.
— Я потом вернусь и заберу Катюшкины распашонки, чемодан, книги, — сказала Антонина, — А ты с Катюшкой посидишь, когда выходной будет.
В далеком городе тихо играла в саду медная музыка, и люди, наверное, уже шли в сад или еще только садились в автобусы, чтобы ехать с работы домой.
Девочка все спала на руках у Анатолия. Ей нравилось, что ее несут, что ее покачивает, а может быть, она уже слышала сквозь сон, как вдалеке играет веселая музыка.
— Отдохнем, — предложил Анатолий.
— Давай, — согласилась Антонина.
Они сели в траву за дорогой. Девочка проснулась и заплакала, не открывая, а, наоборот, сжимая маленькие, сразу покрасневшие веки. Антонина взяла ее на колени, расстегнула кофту и стала кормить грудью.
— Вот и все, — сказал Анатолий.
— Конечно, — согласилась Антонина.
— Чудачки вы мои маленькие две, — сказал Анатолий, лег на спину и стал глядеть в небо.
Прошел дождь, и ночной ветер сбивал с клена отяжелевшие листья. Листья прилипали к стеклам и съезжали по окну вдоль рясок.
Валентина сидела возле окна за аппаратом, похожим на маленький старинный велосипед. Она читала книгу. Некоторые страницы она зачитывала вслух телефонистке Римме.
Вскоре аппарат мелко застучал, колесо двинулось, и лента поползла. Валентина оторвалась от книги, приняла телеграмму, намотала ленту с текстом на растопыренные пальцы левой руки, перечитала еще раз и глухо сказала:
— Ужас-то какой, у Аньки Рыжаковой мать померла.
— Сейчас, что ли, приняла? — спросила Римма.
— Ну да, вот эта телеграмма.
— Не носить бы ее Аньке.
— Как это не носить?
— Без того ей лихо: с мужиком добро делит.
— Какое добро?
— Приходит сегодня Петр с работы и говорит: «Хватит, намаялся за семь лет, говорит, с тобой. Больше, говорит, не желаю».
— Пьяный, что ли, был?
— Ни в одном глазу. «Ты, говорит, не женщина».
Девушки замолчали.
— Не ходи, — сказала Римма, — куда ей горя подливать. Потом отдадим.