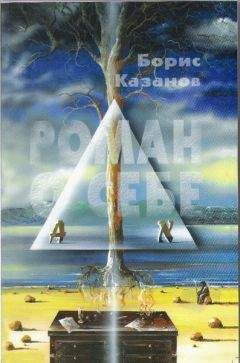- Потому что моя фамилия Герчик, а не Мазуров, - ответил он вдруг.
Мазуров тогда был первым секретарем ЦК, и скажи Герчик такое в Союзе писателей, где ходят неслышно, прикидываясь простаками, но успевая выхватывать чуткими собачьими ушами то, что им нужно, - его песенка была бы спета. Мазурова же восприняла его слова так: конечно, тут и сравнивать нечего! А то, что сказал Миша, казалось, не способный на такую дерзость, услышал и оценил еще один, только вошедший, невысокий, сутуловатый, одевавшийся добротно, как служащий; вошел - я еще не мог знать, - не мнимый, как я или Ваня Ласков, а настоящий детский писатель, из-за которого и явился Герчик, прочитав его изумительную повесть «Между “А” и “Б”».
Когда они, Герчик и Машков, между собой заговорили, Мазурова решила продолжить «еврейскую тему» со мной. Подсев ко мне в своем синем пиджаке «партийки», она сразу, как только опустилась в кресло, как бы осталась с одной головой квадратной, не только морщинами неприятной, но и своим идиотским «перманентом», когда из лысых проплешин вставали дыбом завитые, как у негритянки, кустики красных волос; и губы ее, лилово лоснившиеся с исподу, и все, все в ней было уродливо выставлено, как напоказ.
- Борис, у вас в публикуемом рассказе Борис Казанов, красивая фамилия, Казанова почти, - говорила она без подтрунивания и издевательства, как с Герчиком, а сочувственно так. - Вы разве не смогли вписать ее в гонорар?
- У меня нет документов на Казанова, - объяснил я. - Это псевдоним.
- Как же быть?
- Вот женюсь, изменю фамилию.
- Она белоруска?
- Конечно.
- Я так и думала, что вы не из «этих».
- Я их терпеть не могу, такая-сякая, - я назвал ее по имени-отчеству.
Мазурова не согласилась с таким поголовным осуждением:
- Граждане все-таки, у нас живут.
Такой шел разговор, и казалось странным, что она даже в гонорарной ведомости не хотела видеть меня евреем, хотя в «Зорьке» печатались под своими фамилиями уже набившие руку Михаил Геллер и Наум Ципис… Чего вдруг мне такое предпочтение? Что-то начиналось со мной, когда она садилась вот так, останавливая глаза, занимая руки какой-то ерундой, резинкой, стирая ее о крышку стола. Покрываясь испариной, припоминал я чудовищный сон, который видел, ночуя у Герчика, лежа в чистейшей постели, выстланной Людой, - как я подвергаю вивисекции эту головастицу, препарирую ее природным скальпелем, а она, беспомощно затихнув, лишь подрагивает дряблыми ножками в простых чулках. Я переживал сексуальный психоз с ней, и я сказал ей, как само вырвалось: «Иди к черту отсюда!» - и Мазурова, не произнеся ни слова, поднялась и ушла.
Машков с Герчиком, услышав мои слова, оглянулись с недоумением, даже не пытаясь соотнести то, что я сказал, с Мазуровой, как в сопровождении сияющей Регины, отбросив все, что до этого было, как несущественное, появился Шкляра. Он уже одевался по-московски: серое пальто, кепи из мягкого велюра с широким козырьком и феерической расцветки шарф, который разматывает нервно, поглядывая не на всех, а лишь на того, к кому подходил, без естественного в таких случаях узнавания; подавая легкую с мозолями от лески, порезами от крючков, свернутую в постоянной готовности к рыбе ли, к строке маленькую руку. Большая голова, непропорциональная телу, хотя он не такой уж и маленький, длинный рот с губами, запекшимися от слов, которые он выдыхал на лист бумаги; родная земля могилевская, еще не завеянная Чернобылем, но уже знавшая о грядущем, выбрала его сказать о ней, как в последний час, - зеленоватые глаза под широким лбом с выпуклостями над бровями; и особенно обаятельным был нос, крупноватый, которым он постоянно пошмыгивал; этот нос смягчал его анфас, когда лицо искажалось приступом гнева, оборачиваемым хоть на кого. Сейчас он уродлив, как сатир; природа, высказав себя им, оставила при своем, а тогда - жесткий, жестокий, он постоянно менялся, он был дьявол похлеще, чем Пушкин, так как тот вечно отвлекался, а этот постоянно один: река, Баркалабово, 28-й километр… И вот уже возле меня: «Я по тебе соскучился, сегодня будем вместе?» - Он еще спрашивал! - «Надо закончить почту». - «К черту! Я не хочу, чтоб ты был детским писателем…» - и кончилась «Зорька».
Глава 15. Отступление из-за любви
Мы собрались втроем перекусить в кафе «Лето».
В коридоре возле кадки с экзотическим фикусом стояла девочка в ученическом платье, ждала Ваню Ласкова: славное, подсыпанное симпатичными прыщиками лицо, недетский взгляд, необычайно полные колени… Надо же, какие чувства пропадают!
Шкляра прошел невнимательно, но когда Володя Машков ввел в курс дела, с удивлением оглянулся. Ваню мы встретили, спускаясь по улочке, выложенной декоративным булыжником. Шкляра задержался возле него, однако Ваня остался недоволен: «Шкляра мной брезгует, я для него “штыковая лопата”», - сказал он, то отставая, то пускаясь нас догонять. Шкляра, хоть и был с нами, все время занимался своим: звонил, зашел в рыбацкий магазин за блеснами. Я с ним ходил, хотя был равнодушен к рыбалке. Не оставлял Шкляру, с ним интересно. Мощный поэтический реактор создавал вокруг него силовое поле, притягивавшее людей. Даже когда Шкляра выбирал хлопчатобумажные носки, он выжимал из этого пустяка все, что мог. Приносили одни, другие, он прикидывал, решал прежде, чем платить, и когда доставал кошелек, наступал праздник в чулочно-носочном отделе. Продавщицы расцветали: купил! Вот этому я и учился у него: использовать свой талант в житейских ситуациях. Это был уже другой немного Шкляра, каким его знал по Могилеву, где он выбрал меня в друзья. Пока мы идем парком, стоим, закуривая, над плотиной, любуемся Свислочью в отдалении, где она, сделав поворот перед зданием Белорусского Военного округа, уходит еще в один парк возле Немиги, - пока еще Шкляра не сделался мне «злейший друг», упомяну о годах, связавших меня со Шклярой.
Могилев, ДСО «Спартак», где установлен ринг, и я, герой бокса, готовлюсь сокрушить своих бедных противников. Шкляра пришел за меня болеть с двумя девушками. Не могу его встретить, я весь в поисках тренера Чагулова. Мне нужен тренер, так как соперника я не знаю. Нужен секундант в углу ринга, умный советчик и наблюдатель. Тренер, как уже с ним бывало, поддавшись своей ностальгии, бродит где-то неприкаянный. В таком состоянии он исчезал, сняв, по обыкновению, с вешалки женское пальто. Женское пальто успокаивало Чагулова, приглушало тоску по жене. Поносив пальто, он возвращал с букетом цветов. Это был благороднейший человек, Дон Кихот Ламанчский, страдавший еще оттого, что его подопечные, усвоив приемы бокса, становились бандитами. Со мной тренер еще связывал некоторые надежды, не догадываясь, что и я его скоро оставлю.