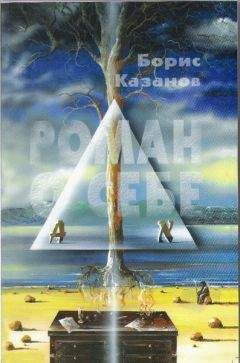Моя ненависть к Нине Григорьевне, когда я увидел ее у себя в квартире, была неосмысленной. Сейчас, осмыслив ненависть как жалкую подленькую месть за собственное отступничество, я готов помириться с тещей. Я считаю, что Нина Григорьевна вполне заслужила всех привилегий любви в своей семье. Ее глухое, упрямое непонимание, отрицание всего, к чему я стремился, - это тот самый «довесок» к Наталье, который и склонил чашу весов. Я понял, что если б даже не жил свободно, словно и не женат, а трудился, как вол, на казенный дом, - во имя будущей пенсии, отмеренной нашим Лидером; если б не скитался по морям, а всю жизнь положил на то, чтоб угодить Нине Григорьевне, - ничего б не изменилось. Помню как не вытерпев ее наставлений, я спросил: «Почему же Наташа со мной живет?» На это Нина Григорьевна ответила недоуменно: «Может, она тебя любит…» - то есть это какая-то личная блажь Натальи, во что нечего и вдаваться.
Не один я, должно быть, немало найдется таких вот, не сумевших уяснить смысл простой пословицы: «Насильно мил не будешь» и обижавшихся, что их не любят, хотя, может, и не за что любить. И не одному мне будет казаться, что если б пошел вон той дорогой на дальний лес, как желал, но отказался, то как раз бы и набрел на дом и имел бы счастье сидеть как сын, а не мозолить задницу на краешке стула, как зять, которого терпят - и сиди. Меня смирил с Ниной Григорьевной один день, и он развеял, откинул прочь мои сожаления; и поставил крест на старой жгучей обиде, которую я имел на Шкляру, - обиде, как бы выросшей из одного корня, посаженного на огороде, неважно на каком и где.
Тот черный апрель с радиоактивным дождем почудился мне в темных лучах, бьющих из летних облаков, когда я ехал от бабки Шифры. А также в слепой собаке, отряхивавшей капли под опаленным костром кустом. В тот день мы славно потрудились с Ниной Григорьевной: вспахали огород и посадили картошку. Я сидел, отдыхая, на меже, ощущал ветерок под рубахой. Смотрел на мягкие борозды под яблонями, красиво обрамленные зелеными кустами смородины и паречки. Любовался бороздами, как написал строчки. Может, и перестарался, закопал местами чересчур глубоко картошку? Теперь придется ждать, когда выровняется ботва. А ветерок уже округлял рубаху, капнуло раз-два, застучал негромкий дождь - и сорвался в ливень. Весь огород в пузырях, давно переполнило железную бочку под стрехой, а дождь льет и льет… Вот тут моя неопытность с плугом и сгодилась! Все равно не вымоет картошку. Не достать дождю до нее…
Но этот дождь до всего достал… Уже привыкли глаза, не дико смотреть на пустой лес, где никто не бродит с ведрами по грибным полянам. Засыпаны озера, ставшие источниками смертоносного излучения. Никто не сидит с удочкой в местах, воспетых Шклярой. Стал страшен огород Нины Григорьевны, где даже ботву запрещено жечь.
Кому нужен теперь этот дом, который я так хотел назвать родным?
И чтоб проститься с ним с миром и теплотой, я вспомню, как вез отсюда в Кричев бабку Шифру. Все-таки я благодарен Нине Григорьевне, что она позвала бабку к себе! Давно мы не были с бабкой Шифрой столько вместе и не были так близки.
В то утро, когда увозил бабку Шифру, я, встав спозаранок, успел скосить на огороде, возле сточной канавы, вымахавший в человеческий рост красавец «дедовник», которого боялся Олежка из-за оранжевых колючих цветов. Откопал заросшие травой ворота. Навел порядок в сарае, уложив дрова и торф. По углам сарая были развешаны большие паучьи гнезда, похожие на стрелковые мишени. Я их не тронул, так как привык уважать пауков. В щели пробивались лучи, просвечивая шевелившуюся в воздухе пыль. Олежка, держа в руках яблоко и коржик, пришлепал ко мне в сандалиях. Постоял, балуясь: разгонялся и плевал в дымный луч, заметив, что слюна в нем блестит. Я подивился, что Олежка замечает такие вещи. По двору одурело бегала курица, я пошел искать яйца и нашел их под лопухом: 6 яичек, одно тухлое. Идя с яйцами, увидел в доме через огород библейский лик сумасшедшей Голды, бормотавшей проклятия своему сыну, женившемуся на «гойке». Олежка принял меня с яйцами, как будто я их снес сам. Появилась бабка Шифра, одетая в дорогу. Мы вышли на улицу, там пасся гнедой конь, на котором я пахал. Его облепляли мухи под глазами. За спиной остались два синих купола церкви, заходящие один за другой. Там шла служба, было слышно пение. В ту сторону прошли тетки в плюшевых жакетах, с железными серьгами в ушах. Одна из них сказала про бабку: «Мягка движется старая!» Точно: бабка ходила легко.
Олежка провожал нас, приставая ко мне из-за овчарки, которую я придумал ему перед сном. Никогда бы я не припомнил, что он говорил мне, если б не записал в дневнике: «Ты думай, вспоминай, какой хвост у овчарки, какая спина. Тут надо трудиться! Пиши слова и думай. Пока ты приедешь, я возьму у бабушки еще один карандаш и сам буду пробовать». Сын больше доверял рисункам, поскольку я ему описал такую овчарку, что он ее не мог здесь увидеть. «Дос», - сказала бабка Олежке по-ряснянски, то есть «хватит». Она закрепила на нем нитку от «суроц», от сглаза, и расцеловала его в обе толстые щеки…
Что почувствовала бы бабка Шифра, увидев Аню? Еще больше, чем Олежка, похожую на меня? Ведь бабка знала меня в ее возрасте, когда я сам о себе еле догадывался! Недавно Анечка, глядя в телевизор, где плакала маленькая девочка, сама расплакалась. Ей были понятны слезы своей ровесницы. А если б заплакала бабка Шифра? Тогда бы Анечка удивилась, как и Олежка, что бабка Шифра плачет… Я спохватился, что почти сочинил рассказ для дошколят, пока глядел на них.
Потом мы ехали в пригородном поезде, грязном, давно не касаемом тряпкой. С металлических частей сидений свисала свалявшаяся, как войлок, пыль. На средних гнутых полках еще лежали непроснувшиеся пассажиры: свешивалась волосатая нога парня, закрутившегося головой в простыню. А напротив сладко спала девка, выпустив чуть ли не до наших голов паутину слюней. Странно было видеть, войдя сюда, уже освеженным росистым утром и продрогшим на платформе, этот застывший ночной кошмар. В вагоне стоял кислый затхлый запах немытых людей, надышавших целую атмосферу. Грязное стекло пятнало природу, и туда не хотелось смотреть. Я посмотрел на бабку Шифру, седоватую, с расчесанными по обе стороны волосами, так что посередине пробегала белая дорожка. Ее грубоватое лицо с широкими бровями, с широкой верхней губой, покрытой темными волосками (бабка состригала волоски ножницами, скрывая дефект от мужей), с курносым носом и большими ноздрями напомнило мне тюленя.
Вот я и подумал о тюленях, так как написал книгу о них… Сколько было надежд! А в итоге?
Была встреча с редколлегией «Нового мира». Меня готовили к показу «АТ», так называли по знаменитой росписи Александра Трифоновича Твардовского. Я не захотел его дожидаться и ушел. Позавчера, когда возвращался из Москвы, лежал на полке и упрекал себя, пьяный, что недостаточно им нагрубил. Владимир Лакшин так ничего и не отобрал для своего несексуально-озабоченного журнала. Даже такие рассказы, как «Некрещеный», «Остров Недоразумения», «Москальво», которые он назвал «превосходные, редкие по живописности». А что говорить про «Местную контрабанду», «Мыс Анна»! Игра в карты, загадывание на судьбу - о чем вы? Даже в сугубо «жизненных» ситуациях следовало выдерживать дозу общеупотребительного пристойного реализма. Все клалось на чей-то влажный, дегустирующий язык… Лев Толстой как-то вертел один рассказ Мопассана: о моряке, переспавшем с собственной сестрой. Рассказ нравился Льву Николаевичу, но он возмущался им. Решил по-своему перевести, но и перевод ему не удался, титану пера!… Когда я, разозленный, уходил из «Нового мира», Игорь Сац попросил подарить рукопись рассказа «Тихая бухта» - там горит стог сена, уложенный и забытый женщинами с лета. Этот стог поджигают, согреваясь, зверобои… Я дал рукопись, удивившись: «Зачем, если не печатаете?» - «Меня согревает этот рассказик. Хочу иметь при себе»…