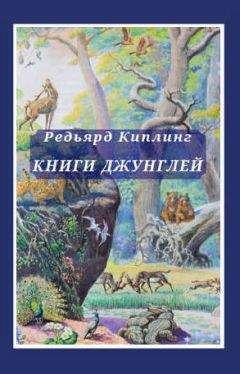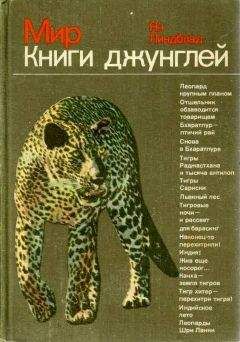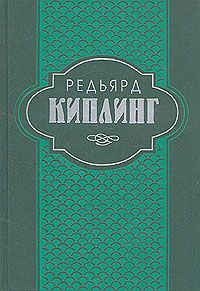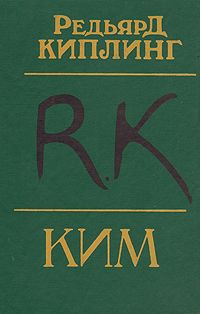Если запасы пищи вдруг иссякнут, там, в ледяной пустыне, ни купить, ни занять, ни попросить не у кого. И тогда люди обречены на голодную смерть.
Но инуиты не думают о беде, пока она не постучится в дверь. И знакомое нам семейство — Кадлу, Котуко, Аморак и малыш, который барахтался в меховом капюшоне за спиной у матери и день-деньской жевал катышки из тюленьего жира, — жило дружно и счастливо, как любое другое семейство на свете. Природа наделила их спокойным, добрым нравом: инуит редко выходит из себя и никогда не поднимет руку на ребёнка; им незнакомы такие понятия, как ложь и воровство. Они довольствовались тем, что добывали себе хлеб насущный, вырывая его из нутра безнадёжной, безжалостной стужи, улыбались благодушными масляными улыбками, по вечерам рассказывали сказки о страшных, таинственных духах, наедались до отвала — и, проводя долгие дни у очага в жарко натопленной хижине за починкой одежды и охотничьей снасти, вполголоса тянули бесконечную песню: «Амна айя, айя амна, ах! ах!».
Но однажды настала страшная зима, когда все сразу обернулось против них. В тот год, после обычной летней ловли лосося, племя тунунирмиутов облюбовало себе стоянку к северу от острова Байлот, и все принялись строить жилища, дожидаясь, когда море окончательно замёрзнет и придёт пора возобновить охоту на тюленя. Однако осень выдалась ранняя и непогожая. Весь сентябрь дули штормовые ветры; они взламывали новый гладкий лёд в тех местах, где он был не толще пяти футов, и гнали его на сушу, и вскоре к северу от посёлка вырос гигантский барьер в добрых два десятка миль шириной — беспорядочное нагромождение торосов, ледяных глыб и острых, как иглы, обломков, пробраться через которые на санях было немыслимо. Вдобавок край большого льда, где зимой тюлени ловят рыбу, оказался ещё миль на двадцать севернее этой ледяной преграды и был недосягаем для охотников. Пожалуй, тунунирмиуты могли бы ещё кое-как протянуть зиму, имея запас мороженой лососины и тюленьего жира и пробавляясь мелкой дичью, попадавшейся в силки, если бы у них не появились нахлебники. В декабре один охотник набрёл на незнакомый тупик — юрту из шкур, где лежали три полумёртвые от голода женщины и девочка-подросток. Оказалось, что все они с самого дальнего Севера, что их мужчины приплыли сюда ещё осенью в лёгких охотничьих лодках-каяках, и во время погони за длиннорогим нарвалом эти лодки затёрло во льдах. Что оставалось Кадлу? Он мог только разместить женщин по домам своих соплеменников: ни один инуит не откажет чужаку в крове пище, ибо знает, что в любой день и его может постичь беда. Аморак взяла к себе в помощницы девочку-северянку, которой на вид было лет четырнадцать. Покрой её островерхого капюшона и ромбовидный узор, украшавший её сапоги из белой оленьей кожи, выдавали в ней уроженку острова Элсмир. Она в жизни не видывала ни жестяных котлов для еды, ни саней на деревянных полозьях. Но обоим Котуко — и мальчику, и псу — она пришлась по душе.
Постепенно все песцы ушли на юг, и даже росомаха — это тупомордое, злое, вороватое животное — не удостаивала вниманием ловушки, которые повсюду расставлял Котуко, потому что в них давно никто не попадался. Двое лучших охотников племени вышли из строя — они получили тяжёлые увечья во время схватки с мускусным быком, и таким образом на плечи остальных легло ещё больше работы. Каждый день Котуко запрягал в свои лёгкие нарты шесть-семь самых сильных собак и трогался в путь. Он до боли в глазах вглядывался в ледяные просторы, стараясь отыскать хоть кусочек ровного льда, где тюлень мог бы выскрести лунку. А Котуко-пёс между тем рыскал по всей окрестности, и если случалось учуять тюленью лунку далеко, мили за три до места, где находился хозяин, то в мёртвой зимней тишине Котуко-мальчик слышал Сдавленное возбуждённое повизгиванье так же отчётливо, как если бы пёс был у него под боком. Добравшись до лунки, мальчик сооружал из снега временное укрытие, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от лютого ветра, и просиживал там по десять, двенадцать, а то и двадцать часов, подстерегая момент, когда тюлень всплывает подышать, и не спуская глаз с особой метки, которую охотник всегда ставит у полыньи, чтобы верней метнуть гарпун. Под себя он подстилал тюленью шкуру, а ноги стягивал особой ременной перевязкой, которой, если вы помните, пугали Котуко старые охотники. Называется она тутареанг и служит вот для чего: во время многочасового ожидания вы можете непроизвольно пошевелить или дёрнуть ногой, а тюлень необычайно чуток, и малейшего шороха достаточно, чтобы его спугнуть; перевязка же обеспечивает полную неподвижность. Хотя само по себе сидение в засаде вроде бы не требует особой отваги, вы, я думаю, поймёте, почему инуиты считают, что сидеть по многу часов со связанными ногами на сорокаградусном морозе — это самый тяжёлый труд, который выпадает им на долю. Когда тюлень бывал наконец убит, Котуко-пёс стремглав нёсся к хозяину, волоча за собой постромки, и помогал перетащить тушу к саням, где лежали, спасаясь от ветра за ближайшим торосом, остальные собаки, измученные и голодные.
Одного тюленя хватало ненадолго — ведь ртов в посёлке было много, а добыча делилась поровну, при том что в пищу шло решительно все, вплоть до жил, костей и кожи. Мясо, запасённое для собак, съели люди, а на корм собакам Аморак пустила остатки шкур, которыми летом обтягивали юрты и которые на всякий случай хранились в хижине под нарами; и от такой еды собаки выли не переставая и даже ночью, проснувшись, поднимали вой. О том, что голод на пороге, можно было судить по огню в очагах. В хорошие времена, когда жира бывало вдоволь, маслянистое пламя в каменных корытцах горело весело и жарко, вздымаясь вверх чуть ли не на два фута. Теперь оно поднималось всего на каких-нибудь дюймов шесть: Аморак неусыпно следила за моховой светильней и приминала её рукой, если огонь ненароком разгорался ярче, чем следует, а все семейство с тревогой наблюдало за её движениями. Инуиты пуще смерти боятся темноты: их и так по полгода кряду окружает кромешный мрак, а когда свет начинает тускнеть и в жилищах, в их сердца вселяется страх и рассудок приходит в смятение.
Но худшее было ещё впереди.
По вечерам голодные собаки в коридоре рычали и и лязгали зубами, и, подползая к выходу, глядели на высокие холодные звезды, и с надеждой принюхивались к ветру. Когда они замолкали, воцарялась тишина, непроницаемая, плотная, как навалившийся на дверь снежный сугроб, — и люди начинали слышать, как пульсирует в их ушных перепонках кровь, — и стук собственных сердец казался им таким же громким, как дробь шаманских барабанов, разносящаяся над снежной равниной. Однажды ночью Котуко-пёс, который весь день в упряжке был необычайно угрюм, как-то странно подпрыгнул и ткнулся мордой в колени спящему Котуко. Мальчик потрепал пса по шее, но тот продолжал слепо тыкаться вперёд, просительно виляя хвостом. Проснулся и Кадлу; он взял в ладони тяжёлую косматую голову, похожую на волчью, взглянул в остекленевшие глаза. Пёс дрожал и поскуливал, словно от страха. Потом шерсть у него на загривке ощетинилась, он заворчал, как если бы почуял у дверей чужака, — и вдруг залился радостным лаем и стал кататься по полу, покусывая сапоги хозяина, будто несмышлёный щенок.