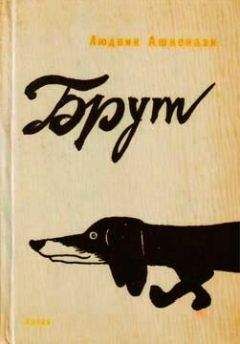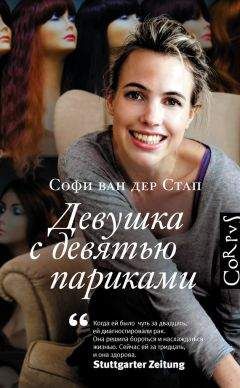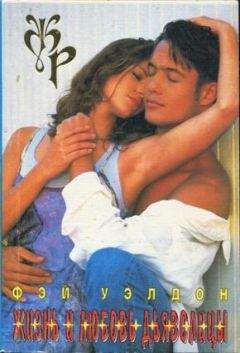Простофиля попал в военный оркестр по протекции.
У фирмы
Племенные пони
Франта Лев
ПОМЫКАЧЕК
был зять где-то в казне, которую захватили в свои руки аграрии. Вот как это получилось, что на предмет таскания барабанов военным оркестрам были по штатам положены помькачковские пони мышастой масти и якобы английских кровей.
Простофиля был взят по призыву жеребенком и уволен на пенсию еще в расцвете сил. Случилось это тогда, когда чехословацким оркестрам уже некому было играть, а барабаны в качестве трофеев были аккуратно сложены в цейхгаузах рейхсвера. Простофилю взял на свое попечение бывший тамбурмажор Фердинанд Кубала, выучившийся в молодости на циркача, фокусника и иллюзиониста и на старости лет с согласия властей вновь выправивший себе патент, — предварительно отказавшись занять место чиновника по вопросам цен в управлении окружного начальника.
Фердинанд Кубала взял с собой — Простофиле на память — красную попону с номером полка и золотыми кисточками, вышитую ученицами высшей девичьей школы и поднесенную пони к двадцатилетию полка. Еще он забрал в гражданку две скребницы для шерсти и торбу для овса. Простофилю, потому как в свое время бывал в Италии, переименовал в Кавалетто, и в домике на колесах, с каруселью и маленьким тиром отправился странствовать по свету, имея в виду, тем самым, преимущественно долину речки Сазавы и — уж в самом крайнем случае — еще кусочек Чешско-Моравской возвышенности.
— Н-но-о-о, Кавалетто мио! — воскликнул Фердинанд Кубала, хлопая пони по заду. — Галопы нам ни к чему, рысь тоже, знай пыхти себе полегоньку да потихоньку. Жри овес и делай из него калачи, но только не на людях. Я буду за тобой ухаживать, а это, ей-богу, лучше, чем если бы ты был на личном попечении самого рейхспротектора Чехии и Моравии!
И отправились они в путь по дорогам значения государственного, областного и по местным проселкам. Да так уж на этих проселках и застряли. И кто бы им ни повстречался, каждый улыбался и потом еще рассказывал детям, что, дескать, довелось ему увидеть последний цирк, а из фургона, детки, что-то раздавалось — вроде как лев, не то леопард… Прямо страх божий! Но это всего лишь храпел Фердинанд Кубала, иллюзионист, живший без иллюзий и хорошо знавший, что единственно, чего не отнять у человека наверняка — это того, что съешь и проспишь.
Кавалькада та была поистине красочной. Впереди пыхтел трактор, уходивший своим происхождением в технические войска и отчаянно смахивающий на самовар на резиновых шинах. За собой он тащил домик на колесах, фургон с брезентовым верхом и открытый прицеп. В домике за ярко-голубыми занавесками разбил свой стан сам Фердинанд Кубала, который иногда — дабы внести разнообразие в отправляемую должность — переходил на трактор и лично крутил баранку. Под брезентом был сложен тир, и на дорогу выглядывали деревянные лебеди, а в самом хвосте один размалеванный конек показывал задик. На прицепе тащился круг от карусели.
На тракторе восседал некто Косина Карел, сержант сверхсрочной службы, ныне в бессрочном отпуску, первый корнета-пистон и валторнист; именно он перед каждой деревней останавливал кортеж, трубил и громогласно возвещал:
Гранд-цирк «Кавалетто»,
Только одно представление!
Вот и все объявление.
Умный — к нам спеши,
Глупый — на печи лежи!
По этой части Косина был большой дока и кто бы его ни услышал, бросал все и сломя голову мчался в цирк.
И последним в этой кавалькаде, но отнюдь не самым малозначительным, выступал Простофиля. К трактору он привыкал долго, но так и не смог привыкнуть. Старался держаться от него подальше и лучше обходил стороной. Так он и вышагивал себе за прицепом и, не будь лошадью, непременно все это время отдавался бы воспоминаниям.
Но это вы бросьте: «не будь лошадью…»
Может как раз у лошадей нивесть какая память, особенно у тех, что ходят в упряжке, и самое большое удовольствие для них — предаваться воспоминаниям. Ведь иначе отчего бы так часто случалось, что ни с того, ни с сего конь вдруг засмеется, потихоньку и с большим внутренним смаком? Что если он как раз вспоминает, как, бывало, на смотрах под ноги командующему парадом выпускал свежее яблочко всякий раз, когда тот саблей наголо приветствовал новую часть? Мы с уверенностью не можем сказать, что думает человек, сидящий с нами за одним столом; как же нам знать, отчего ржет кобыла?
Простофиля, конечно, вспоминал про военные парады. Правда, никакого особого удовольствия он от них никогда на получал, ибо видел перед собой только жирно раскормленные зады трубачей-геликонистов. И никогда не держал равнения ни направо, ни налево по той причине, что на глазах у него были шоры. Главное, что от него требовалось — это не сбиваться с пути и шага.
Но вот раздавался гул полкового барабана и лязг тарелок. Простофиля выпрямлял свой твердый хребет, выпячивал не слишком выступающую грудь и ждал, когда оркестр получит команду выйти из марширующей колонны и занять свое место на свободном пространстве подле трибуны. Ну, а потом уже наблюдал войска в церемониальном марше и генералов верхами, а однажды даже видел румынского короля с молоденьким королевичем в адмиральском мундире. Простофиля, однако, не проводил разницы между благородиями и нижними чинами; все человечество он делил на две другие категории: на военных музыкантов и всех остальных.
За двадцать лет военной службы в Простофилю прочно вселился ритм. Был то ритм барабана, который он тянул за собой, ритм тяжелых подкованных солдатских башмаков, а также поступи лошадей, которых держат в узде.
Военную музыку Простофиля почитал за самую высшую власть на свете: ее команде послушны все. И пони. Военный оркестр издавал звуки, от которых приходило в волнение все человечество. Для этой музыки Простофиля не нашел названия даже на лошадином языке, отнюдь не столь бедном, как предполагают ветеринары. Доподлинно он знал лишь одно: что у музыки есть что-то общее с кровью и с огнем, и с водой, что это движение, волнение, которое, затягивая словно омут, увлекает с собой целые эскадроны лошадей. Поэтому для музыки Филя не искал выражения, но любил ее больше, чем овес.
Обо всем этом вспоминал Простофиля, вышагивая за прицепом, возле трактора, списанного из технических войск. Он рвался возить военный барабан. Такая уж была у него амбиция.
А по свету в это время катилась война, без барабанщиков и трубачей. Города крушились, как карточные домики, старая Европа тлела, как разрытое кладбище, из голубых кристалликов циклона, потихоньку и едва ли не ласкаясь, пробирался в камеры газ, умерщвлявший безболезненно всего за несколько минут.