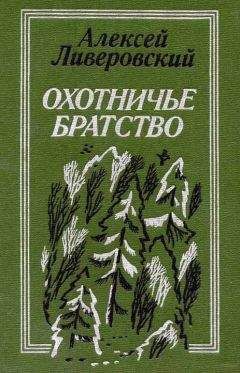Похолодало — и день на уклон, и туча накрыла солнце. Усилился ветер. По старым листьям, по палой хвое застучала, запрыгала ледяная крупа. Неуютно стало в лесу. И время идет, время. Стало ясно, что на подслух не успеть, даже если не тратить время на удобство ночевки, хоть и плохо это — ночи долгие, холодные, — не успеть к вечерней заре.
После вырубки осталось два километра по старой дороге. Вечерними голосами перекликаются певчие дрозды. Я выдохся. Выберу сухой бугорок, валюсь на спину, не снимая мешка. Спину подпирает — и ладно, не надо будет снова напяливать. Полеживаю, сердце по ребрам: бух! бух! А думается спокойно, улыбчиво: «Силен мужик, силен! И необычный. Кто из сослуживцев, сверстников может представить, что ради того, чтобы зяблика послушать, весной подышать, до глухариного тока дойти, стоит так геройствовать, мужествовать? А сейчас плюнуть бы на все, затабориться вот здесь, под елками, поесть, поспать. Нет! Нет! Буду доламывать дело, как бы ни получилось, хоть целую ночь брести и мерзнуть без огня. Силен мужик, силен!»
Темнело, ветер стих, можно прикурить, не заслоняя огня спички, только он стал краснее, чем днем. Дымок папиросы, не рассеиваясь, плотной полоской поднялся вверх по склону, и ему вдогонку поползла от мшарины призрачная полоса тумана. Протрубили зорю журавли. Одна за другой смолкли птицы. Приближаясь, цыкнул вальдшнеп, раз, другой и, наконец, выплыл над вершиной елки и хоркнул над самой головой. Воздух похолодел и застыл: хорошо различаются запах машинного масла от ружья и кисловатая вонь подпорной воды. Идти стало легче. Я знал, что удобный для ходьбы вытаявший склон тянется до места обычной ночевки перед током, был уверен, что скоро дойду, побаивался только ручья — его не обойти. Он идет по оврагу, в старом ельнике.
Среди потемневших вершин прорезался серп месяца-молодика. Там, в его стороне, невидимо протянул еще один вальдшнеп. На последнем свету переходил ручей — неширокий, метров пять, за ним на бугре давно обжитый табор с запасом топлива.
Попробовал лед ногой, палкой постучал — не трещит, крепкий и не скользкий, много на нем хвои и оборванных ветром кусочков коры. Шел смело, уверенно, и уже близко к тому берегу лед под ногами рухнул разом! Я оказался по пояс в воде. Выскочил и лег на брусничник. Боже мой, как холодно! Все тело трясется, и стучат зубы. Скорее сапоги снять — льет из них, как из ведер, одежду прочь! Рюкзак не промок — там смена, в резиновом мешочке аварийный коробок спичек. Скорее костер! Длинной палкой достал со льда шапку. Глянул на часы — идут, не промокли. До зари около трех часов, ток рядом. Костер разгорелся скоро. Переоделся быстро, верхнюю одежду сушил как мог.
Я устал, смертельно устал… Отцы и братья охотники! Поймете ли, простите ли? Верьте, не захотелось идти дальше, опостылело все.
«Ху-ху-ху!» — тоскливо прокричал брачный призыв заяц совсем близко от костра. «Ху-ху-ху!» — прокричал еще раз, удаляясь. Журавли на болоте громко и плачуще отметили полночь. И, словно утверждая жуть и одиночество человека в ночном лесу, гулко и хрипло заухал филин.
Все стихло. Погасла последняя светлинка на севере, и надвинулась ночь, непроглядная, холодная, окоченевшая в неподвижности. Только искры от костра яркорыжими червячками струились в черноте еловых вершин, укорачивались в звездочки, пытались смешаться с небесными звездами, но были им чужие.
Сколько ночей я провел в лесу, — привык, подсмеиваюсь над друзьями, что не любят ночевать в одиночку, сам никогда не откажусь, если надо по охотничьему делу, и все же, и все же… Далеко ли, близко ли от дома, в темном бору или в светлом березняке приходит ночью душевное затмение, безволие и вялость. Не хочется выходить за освещенный костром круг, хочется лечь, притулиться к корням дерева у теплинки, сжаться в комок, уснуть, вожделеть утро.
Я устал, смертельно устал.
Никчемным показался весь поход, смешна моя гордость и радость преодоления. Отдохну и с первым же светом, не торопясь, легкой ногой пойду обратно, уеду в город. Настоящее там — не здесь. Там люди, нужное, зря отложенное важное дело…
Так я чувствовал, так думал и… сам не знаю почему — остаток ли охотничьей страсти, упрямство или близость цели, — пошел. Собрался, мокрое покидал в мешок, погасил костер и окунулся во мрак. Медленно, шаг за шагом, защищая глаза от веток, побрел к току.
Спустился на болото. Там, среди редких, корявых сосен, снег лунил, идти стало виднее. Заморозка не было, сапоги пробивали снег до воды. Время раннее — если и проснутся глухари, уснут опять и забудут.
Глаза привыкли, различали даже вдалеке обрыв темной кромки леса — место, давно облюбованное для вечернего подслуха. Дошел быстро. Здесь все, как было: среди высоких сосен одинокая раскидистая едка — под нижними ветками как в шалаше — и толстый присадистый корень. Сел, облегченно вздохнул. Звезды горели ярко, заря еще не скоро. Есть не хотелось. Я развернул конфету и уснул с леденцом во рту, в глухом лесу, на кроме Липняжного мха.
Проснулся не случайно, не потому, что пришла пора. Как только понял, что не сплю, что не дома на кровати — в лесу, стал прислушиваться, по охотничьей привычке, не шевелясь, не оглядываясь. Темная еще зорька была безмолвна. Однако я знал, что разбудил меня очень громкий шум. Слух, придавленный крепким сном усталости, пробудился и обострился. И сразу же я услышал совсем близко шепелявую песню глухаря. Странно, почему птица не испугалась близкого грохота, который, я уверен, был, твердо уверен в этом? Очень странно!
Точат глухари. Не один: слышу далекую песню за болотом, чуть-чуть она доносится, еще одну — поближе, справа позади меня, на еловой гриве, и совсем близко, кажется рядом надо мной, в сосновой куртине: «Тэ-ка, тэ-ка! Тэ-ка!» — как шарики в настольном теннисе, и все скорее и скорее: «Тэ-кере-ре-ре!» — и вот глухая песня: «Чи-чир-вить! Чи-чир-вить!» — будто хвоя на ветру. Странная песня, хоть не громкая, а все равно предательская для глухаря. Пока он молчит, встречая утро на вершине сосны, или, проснувшись, затэкает, защелкает — слышит превосходно: за сто шагов услышит треснувший под ногой сучок или потревоженную льдинку, но стоит только ему страстно забыться в глухой песне, совершенно перестает слышать, хоть из пушки пали. Зрения не теряет, но в полутьме раннего утра видит плохо. Подвела природа мошного тетерева, и этим пользуются охотники. Заслышав песню, дожидаются последнего колена, делают два-три скачка, не заботясь о шуме шагов, и замирают в полной неподвижности. В сумерках под самое дерево можно подойти. Как говорят, хоть руками бери — это большую-то осторожную птицу.
Горячо пел глухарь, лил песню за песней, и вдруг… страшный шум, прямо грохот в утренней совершенной тишине: хруст снега, всплеск и бульканье воды, деревянный стук. И все это под глухую песню, точно под глухую песню, и оборвалось — стихло.