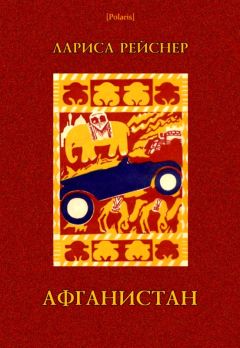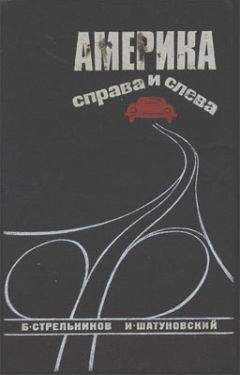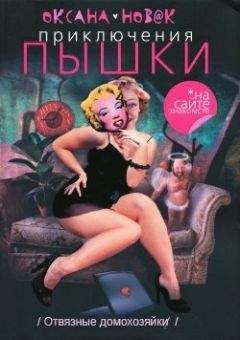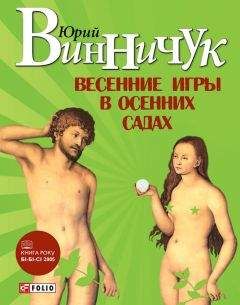Началась весна. Снег еще не совсем растаял, но все ручьи клокочут, их мутные воды пахнут камнями, мхом, горной свежестью. И в этом диком вешнем запахе все напоминает аромат моря. Мельницы сердито шумят, бурный бег и плеск набухшей воды заглушает жемчужное шелестенье жерновов. Тополя побелели, как молоко, засветились своей серебряной чащей на бесконечно нежном, неуловимо-бирюзовом небе. На бархатных озимых полях ярко-красные дети и подростки выпалывают сорную траву.
Это время весенних праздников, когда тысячи людей высыпают за город, к каруселям и чай-хане, струящим в чистом воздухе запах легкого угольного жара; время детей, которых отцы на плечах несут на «тамашу»; время трещоток, свистулек, маленьких идолов с золотыми глазками, бумажных мечетей, фиолетовых деревянных лошадей с оранжевой головой и зелеными ногами.
Скалы вдоль дороги унизаны людьми, на каменном карнизе, на ковре шелкового, темно-синего неба они выделяются, как цветные изваяния. Склоны желтых гор сплошь залиты людьми, — там смотрят борьбу и скачки. Верблюды, груженные хлопком, с трудом идут своей трудной и однообразной дорогой. Среди толпы, оставляя за собой легкий дымок пыли, поднятой краем слепого покрывала, нигде не останавливаясь, ни на что не оборачиваясь, проходят женщины двора.
Ему шестьдесят лет, этому старому Вандерлипу, но несметные миллионы не дают ему остановиться, перевести дух, подумать о спасении своей запыхавшейся души.
Золотой доллар бежит вокруг мира, а за ним гениальный эксплуататор, торговец красными, желтыми и белыми душами, великий Вандерлип. Доллар капризен, более прихотлив и взбалмошен, чем старое, классическое колесо счастья.
Ему не спится в недрах несгораемых шкапов, в блестящем улье банков. Он выскальзывает из верных, обеспеченных предприятий, перекипает червонной пеной через края разумной спекуляции. Американский золотой прыгает все ниже, и, промелькнув соблазнительной тенью через кроваво-грязное игорное поле Европы, приводит великодержавного откупщика в кабинет Ленина.
И вот старый надуватель, корректный и набожный, сидит и торгует у гения революции заповедные лесные трущобы Сибири и Архангельска, и каспийскую саженную осетрину, пространство и время немеренных русских дорог, и нефть, и соль, и уголь, и даже, если красное станет розовым, если революции не миновать буржуазного чистилища, то и немного рабочего и мужицкого пота, до которого такой охотник этот американский шалун, этот веселый, звонкий, солнечно-смеющийся доллар.
Что между ними говорено, — этого, собственно, никто хорошенько не знает. Как они сидели друг против друга, этот большой, большущий разбойник в оболочке добровольного квакера, с поджатыми, бритыми бабьими губами, с вместительным, коротко остриженным седым черепом бухгалтера, подсчитавшего все расходы и приходы вселенной, сумевшего взять честный процент со всех банкротов, со всех могил «неизвестного солдата» и всех победителей мира, — этот великолепный Вандерлип, непринужденно говоривший дерзости королям и пресмыкавшимся президентам республик, этот Вандерлип, у которого только глаза, молодые, неустрашимые глаза объездчика степных лошадей, говорят правду, и Ленин.
Вероятно, Вандерлип не сразу понял, что такое Ленин.
Врал, грубо соблазнял, заманивал, может быть, даже разложил на письменном столе веленевые, с золотыми печатями, аттестации своих трестов, украшенные подписями королей и принцев, величеств угольных, суконных, машинных и пушечных. Но когда Ильич, наконец, засмеялся… когда старый американец вдруг почувствовал, что сидит в своем кресле голый, как король из сказки Андерсена, до того голый, что его собеседнику видны все цифры и тайные выкладки, все вожделения, как пчелы, роящиеся в клетках его мозга, — тогда Вандерлип перестал врать. Стал прост, огромен, как его огромные предприятия, смел и откровенен.
И пошел на приступ.
— Я покупаю голод. Сколько вы за это просите?
«За умирающих детей, за ваши поля без машин, за разрушенные дома, за все пути, покрытые снегом и песком, за все язвы вашей дьявольской революции, за ее отдых и покой, за безопасность завтрашнего дня, говорите скорее, скидывайте, Владимир Ильич, скидывайте на ваших красных счетах!»
И божественный доллар заиграл, запел и зазвенел в спартанском кабинете. Несколько слов, росчерк пера, коммунизм, отступивший лет на сто из мира действительности в область утопий и золотого идеализма, — и капитал оплодотворяет, вдыхает новые силы, брызжет живой водой, дает все готовое вместо своего, трудного, все наново изобретающего строительства.
Божественная легкость купли и продажи — Интернационал вольных денег и вольной торговли.
Прощение, примирение, братская помощь России. Не побежденной, — нет, ее честь должна быть пощажена, — а лишь разумно уступившей голоду, стихиям, милосердию. Суровые венки Октября и трех лет гражданской войны — на алтаре гуманного человеколюбия. Маркс, проданный Вандерлипу ради спасения голодающих детей.
— И завтра — вот завтра, смотрите, Ленин, вы, душа фабрик и фабричной эры, вы, отец машин, вы, идеолог мирового рабочего объединения. Ваше рабочее, ваше пролетарское сердце не устоит перед трудовым раем, который я, Вандерлип, принесу Российской республике в обмен на пустые и уже отжившие социальные бредни.
— Вот, смотрите, ваша РСФСР, — и доллар поет и рисует, — нечто большее, чем Америка Уитмана, — машины, и уголь, и нефть…
«Урал, раскованный, как пещеры Аладина, — изумруд, сапфир, алмаз, и таинственный радий, в котором смерть и здоровье, мертвый огонь разрушенья и само исцеляющее солнце.
Желтый Каспий, весь в переливчатых пятнах нефти, горячая Астрахань, заваленная рисом и хлопком Персии, коврами, вином, оглушенная криком верблюдов, изнемогающих под своими вьюками.
Пески ожили, и до самого Мертвого моря — виноградники и сады: Закаспийский суровый край цветет, как его миндальные рощи ранней весной.
И Сибирь — ее золотая руда, которую до сих пор мелочно и жестоко воровали, насилуя и оскорбляя землю.
Эврика!
Новое Эльдорадо у берегов Ледовитого океана, золото, текущее густыми струями вдоль великих северных рек. И шум столетней хвои. Тайга, с ее шкурами, салом и драгоценными породами деревьев, брошенная на европейскую биржу, как скифская невольница, неслыханная, могучая и плодоносная.
Ведь это спасение Европы, это омоложение усталого белого человечества.
В молочных реках, в смолистом море лесов, в сверкании девственных руд — будущее, новый эпос, новая религия победоносного труда и творческого капитала!