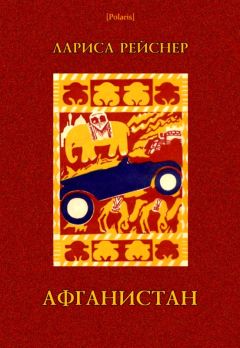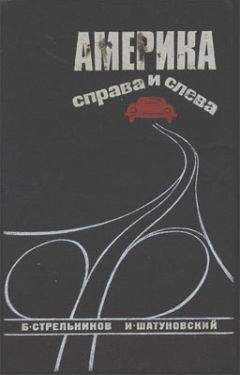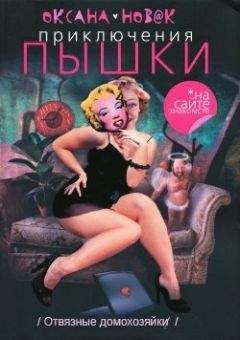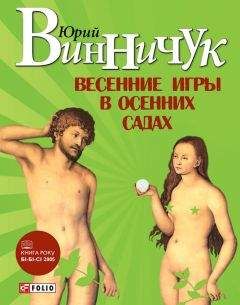Желтый Каспий, весь в переливчатых пятнах нефти, горячая Астрахань, заваленная рисом и хлопком Персии, коврами, вином, оглушенная криком верблюдов, изнемогающих под своими вьюками.
Пески ожили, и до самого Мертвого моря — виноградники и сады: Закаспийский суровый край цветет, как его миндальные рощи ранней весной.
И Сибирь — ее золотая руда, которую до сих пор мелочно и жестоко воровали, насилуя и оскорбляя землю.
Эврика!
Новое Эльдорадо у берегов Ледовитого океана, золото, текущее густыми струями вдоль великих северных рек. И шум столетней хвои. Тайга, с ее шкурами, салом и драгоценными породами деревьев, брошенная на европейскую биржу, как скифская невольница, неслыханная, могучая и плодоносная.
Ведь это спасение Европы, это омоложение усталого белого человечества.
В молочных реках, в смолистом море лесов, в сверкании девственных руд — будущее, новый эпос, новая религия победоносного труда и творческого капитала!
— Ленин, вы придумали электрификацию, — я ее осуществлю! Вместе, только вместе, мы построим ваш машинный рай, вашу Россию, которая согнется под тяжестью железных путей, чьи снега поголубеют, озаренные спазматической, волевой электрической вспышкой.
Ваши фабрики закипят, ваши верфи смешают с холодным и чистым воздухом взморья утренний, соленый, петровский стук молотков. Ваши гавани оживут, и смолой, и жизнью, и молодым богатством повеет от высоких тюков, сложенных бесконечными рядами, от яростного воя сирен, от плеска морской воды, кипящей между гранитом петербургских набережных и обветренными бортами океанских кораблей.
Вы всегда были практиком, Ленин, три года вы смывали кровью и слезами ненужные теории — законы, коварные росчерки упраздненных обязательств и договоров, заключенных вашей царской, воистину идиотской дипломатией.
Будьте же практиком и теперь, не приносите в жертву теории, хотя бы и марксистской, великую реальность рабочей республики.
Конечно, мы были неправы, — мы вас не понимали и недооценивали интервенции, и все такое… Больше этого не будет. Но по-честному — и вы бросьте-ка свои эксперименты с частной собственностью и Третьим Интернационалом.
Вы огромный человек, Ленин, у вас изумительный череп, чисто американский. Теперь, когда недоразумения окончены, я могу сознаться: эта ваша спекуляция с социальной революцией гениально была придумана. И совершенно ново, неповторимо оригинально. Даже мой доллар пошатнулся, не говоря уже об их падучем франке и прочее.
Как деловой человек, советую не платить никаких долгов, — запрашивайте, играйте еще смелее. Они уступят.
Но в такой игре, как ваша, нельзя быть одному. Вы и я — мы сговоримся, мы должны стать компаньонами, и тогда…» Тут золотой запел остро и пронзительно, как рожок перед атакой, как кнут, взвившийся над головой скрежещущего мира, как осторожный ключ, который тюремщик старается повернуть в заржавелой, давно не отмыкавшейся двери.
Может быть, в кабинете стало темно, незаметно надвинулись сумерки, окна засинели, Москва замигала первыми фонарями, и полились колокола. Прежде чем ответить, Владимир Ильич повернул выключатель, — и вот свет.
Перед Вандерлипом, успевшим принять свое приличное иностранное выражение, — лицо Ленина с его татарскими, несколько раскосыми глазами, которые смеются из-под большого лба. Кажется, это вовсе не лоб, а белая березовая кора, лохмато надвинутая на самые эти языческие, светлые, спокойно-веселые глаза. Из своего дупла они теперь смеются, как на Ивана Купалу.
Вандерлип невольно встал, поклонился, как после оконченной дуэли, и взял со стола шляпу и трость.
Из Москвы миллионы Вандерлипа погнали его на Восток. Как и все стареющие завоеватели, он стал думать о походе на Азию, о чудовищном объединении Китая, Афганистана, Персии, Месопотамии и Турции в единую банковскую и железнодорожную державу.
Замостить шпалами дороги Александра Великого, Моголов и Цезарей, включить в единую электрическую цепь все разрозненные куски мусульманских государств, охваченных национальным брожением, связать все рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, открыть Америке новые ворота в Азию, проложить ее товарам триумфальный путь через весь Восток.
Убить англоиндийскую торговлю одним ударом, кончить ее, уничтожить, как хороший боец бросает в пыль быка. Этой блестящей шпагой, этим прямым, в глубину голубой Азии убегающим клинком будет великая магистраль. Она вонзится не только в золотой затылок Индии, — нет, мечты Вандерлипа смелее: она уложит на лопатки и ликвидирует всю восточную торговлю Англии, она задушит ее рынки, наводнив их всепроникающей, всемогущей дешовкой.
От Шанхая до Кашгара, от Тегерана до Константинополя в реве паровозов, пересекающих пустыню, прозвучит победоносный гимн дешевой спички и дешевого чулка, общедоступной бритвы и непобедимых в своем ничтожестве подтяжек. И взамен всего этого Америка возьмет чистый кудрявый хлопок, жемчужный рис, раздвоенный посередине, как нежный подбородок, и моссульскую нефть, эту черную душу движения, скорости и силы.
Под треск и вой обанкротившихся английских предприятий, под широкий, непрерывный, водопадный гул, с которым американский капитал ринется в песчаные русла Азии, под раскаты новой войны и навязав истории свои акции и векселя на сто лет вперед, — вот как хочет кончить Вандерлип, и вот почему он сегодня гостит в Кабуле, столице Афганистана.
Время Вандерлипа идет со скоростью курьерского поезда. Слепое, оно дает сильный крен на поворотах, летит на одном колесе, содрогается, скрипит, и опять вперед — по кратчайшей математической линии. Вандерлип живет в своих несущихся часах, днях и неделях, как в вагоне международного общества. Всегда спокойный, прямой, чисто выбритый и немного пыльный.
Скорость движения и размах мировых авантюр не мешают ему посасывать трубку, прочитывать послеобеденную газету и совершать длинные верховые прогулки. Афганский офицер, сопровождающий его, от усталости болтает ногами, ерзает, сидит на шее лошади. Американец ничего, — крепко держит сухими коленями своего жеребца, точно пачку деловых бумаг патентованным зажимом. Не потеет и не устает.
Бросив повод солдату, карабкается на горы, набивает карманы и седельные сумки камнями, нюхает и пробует мутные воды минеральных источников. Затем душ, жирно-сладкие, пряные кушанья восточной кухни, с которыми его железный желудок отлично справляется, а вечером трубка и граммофон, радостно горланящий в сумерки Гюлистана: «Everybody is crazy on the fox-trot».