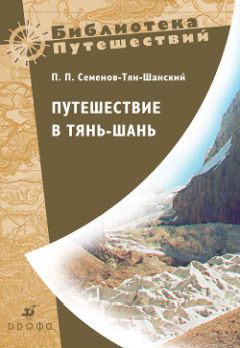Я много проработал в разных экспедициях, но подобного начальства никогда больше не встречал.
Правда, работать оно не ленилось и с нас работу спрашивало.
Вскоре у нас в экспедиции с продуктами стало неважно. Попросту нечего стало жевать. Мы безжалостно и бессовестно пользовались гостеприимством аулов. Но их было мало, и встречались они не каждый день.
Начальство теперь уже не гнушалось принимать участие в общих утренних трапезах, видимо запасы в сундуке истощились. Никаких разговоров о том, что мы чревоугодники и задерживаем экспедицию, больше не было. В одном поселке в наше отсутствие оно купило и скушало, не поделившись ни с кем, целого петуха. В момент моего неожиданного возвращения оно так поспешно стало уплетать последнюю из конечностей этого петуха, что даже подавилось.
– Очень жаль,- неловко хихикая, сказало оно,- что вы немножко опоздали, я хотела угостить вас кусочком курочки.
Я ничего не сказал; я боялся, что если начну говорить, то не сдержусь и ляпну что-нибудь непотребное.
В эту ночь мы, чтобы избежать дневной жары, задолго до рассвета двинулись дальше. И тут нам повезло. Широкая степная дорога шла по едва заметно всхолмленной местности. Когда мы с Васькой довольно далеко опередили брички и легли, поджидая их, прямо на дороге, то на фоне чуть светлевшего горизонта неожиданно увидели силуэты чернопузов, бегущих впереди нас.
Так, не сходя с места, мы открыли огонь, целясь в эти силуэты. Через минуту мы подобрали на дороге полдюжины увесистых чернопузов. Не знаю, как называется эта птица, она побольше куропатки, поменьше тетерева, живет в степях, и живот у нее действительно черный.
Вечером, когда все было уложено и сделано,- все дневные сборы приведены в порядок, гербарий разобран, образцы почв упакованы, мы, усталые и голодные, уселись вокруг костра. В казане доваривались наши чернопузы. Из палатки к костру пожаловало и начальство. Оно хихикнуло и уселось в наш кружок.
– Ну,- сказало оно,- сегодня мы с мясом.
Мы молчали, мы ничего не отвечали.
И когда чернопузы сварились, мы вытащили каждый по птице и жадно стали их пожирать. Мы не предложили оставшегося в котле чернопуза начальству. А оно сидело, похмыкивая, затем помялось-помялось, а все же вытащило оставшегося чернопуза и унесло к себе в палатку. Мы переглянулись и громко, не стесняясь быть услышанными, захохотали. Громче всех хохотал Васька, он был главный фрондер против начальства.
Состав экспедиции был у нас довольно пестрый. Так, например, мой приятель Васька был практикант, вообще студент-художник. В экспедиции он был человек случайный, ему хотелось в основном написать побольше этюдов, поездить, посмотреть. Если ему говорили, чтобы он что-нибудь чертил или где-нибудь копал,- он чертил и копал. Но когда ему ничего не поручали делать, он немедленно вынимал альбом. Рисовать он мог часами и всегда хотел нарисовать такие вещи, которые, по-моему, нарисовать невозможно. Он все пытался выразить на бумаге не то, что видел, а то, что чувствовал.
Препаратор Зина тоже, хотя и была добросовестным работником, но в бой не рвалась. Это было комнатное, домашнее существо. Во всяком случае учиться дальше и продолжать экспедиционную работу она не собиралась.
Последний наш спутник – Екатерина Михайловна была, несмотря на свой скромный возраст (22 года), человеком солидным и крайне принципиальным. Она была вся какая-то округлая: лицо имела круглое, фигуру шаровидную, глаза круглые и на глазах круглое пенсне.
Екатерина Михайловна была, да и осталась на всю жизнь, немыслимым энтузиастом. Она дольше всех засиживалась в палатке, выправляя свои записи, с жадностью бросалась на каждое новое растение. Сотни раз слезала в день с седла, чтобы разглядеть какую-то прежде не встреченную травку, несмотря на то что влезать на лошадь при ее малом росте и большом весе всегда представляло для нее великую трудность. Она любила спорить, всегда горячилась и вечно обижалась. Побывав уже в трех экспедициях, она претендовала на звание старого, закоренелого экспедиционного волка, но в общем была довольно беспомощна.
Мы с Васькой сначала не умели ездить верхом. Екатерина Михайловна держалась на лошади лучше нас, то есть именно держалась, не падала. К концу экспедиции мы выучились и ездить, и сидеть, и седлать, и смотреть за лошадьми, но Екатерина Михайловна как подпрыгивала мячиком, когда села в седло в первый день, так подпрыгивала и в последний; как не слушались ее лошади вначале, так не слушались и в конце. Нередко мы слышали отчаянный крик и спешили к ней на помощь, потому что вдруг лошадь увозила ее прочь от всей экспедиции. И мы скакали за ней, и лупили ее лошадь, и вместе с Екатериной Михайловной подгоняли назад.
Лошади сразу чувствуют, кто как с ними обращается и кто для них хозяин, а кто нет. Удивительное дело – когда я стегал лошадь Екатерины Михайловны, лошадь не пыталась меня укусить, а лязгала зубами на нее.
Таков был состав нашей экспедиции.
Мы шли от Чу к горам несколько дней; наконец, начался постепенный подъем – вместо серой однообразной пустынной полыни появились степи, появилась какая-то жизнь, в каменистых, небольших щелях среди камней бегали, перекликаясь, горные куропатки-кеклики. Они бегали среди камней и клохтали, и стрелять их было легко и неприятно.
Довольно долго наш лагерь стоял у утеса Уй-тас. Здесь была вода, был корм для лошадей. Возле ручья росло несколько деревьев, все ветви и сучья которых облепили гнезда розовых скворцов. Жили скворцы недружно, и нередко можно было видеть, как они дерутся в воздухе, иногда даже на землю падают в азарте драки. Но против внешних врагов, против ворон, ястребов выступали единодушно сомкнутой массой, навязывая бой в воздухе, окружали, били со всех сторон и всегда отгоняли их от своих гнезд и птенцов.
Обратный путь от Уй-таса мы проделали по долине реки Тарлагана. Было и странно и приятно видеть среди пустынь и сухих степей зеленую цветущую узкую щель. Между обрывистых, крутых склонов струилась небольшая речка, вдоль нее колыхалась стена тростника, а рядом, по берегам, росли деревья и кустарники. Дорожка по Тарлагану то шла по склону над рекой, то спускалась к самой воде, ныряя в гущу тростника, и он шуршащей зеленой стеной окружал нас. Он был удивительно хорош, этот тростник, переплетенный вьюнками. Зеленый, шелестящий, он сводом смыкался над узкой тропинкой. После слепящего света и жестокого зноя прохлада и полутень охватывали все тело, хотелось так и стоять здесь, слушая журчание реки, невидимо струящейся где-то рядом, всей кожей впитывать прохладу, бездумно любоваться непрерывной игрой светотени, слушать легкий шелест тростника.