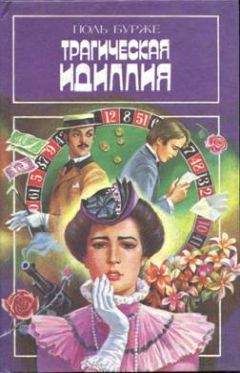С тем же кораблем, что и это письмо, отправляются депеши нашего губернатора, он просит подкреплений. Это разумно, потому что Суринам и Парамарибо в опасности: у нас осталось только 1800 морских пехотинцев. Как видишь, война здесь хороша!
Если твой сын — слушай хорошенько, Геркулес! — если твой сын и впрямь такой бешеный воин, как ты пишешь, посылай его ко мне. Я позабочусь о нем, как о родном сыне, а он будет первым в атаке и последним в ретираде. Ты пишешь, что он падок на опасности, так здесь он ими натешится — только выбирай, да и колонии пользу принесет. Для такой войны потребны не люди, а сущие черти — слышишь, Геркулес!
Ну, а мне такая война не больно нравится. Но раз уж я здесь, приходится драться как сумасшедшему — отрабатывать жалованье и защищать свою шкуру. Быть может, это мое последнее письмо к тебе: ведь если зазубренные стрелы были отравлены, считай, что я сложил голову в вылазке против Зам-Зама.
Как бы то ни было, всех тебе благ, любезный друг мой Арди. Вспоминай иногда старого приятеля, а я выпью пинту бордоского вина за твое и за свое здоровье. Закончу по-солдатски: трусов долой, молодцы в бой!
Майор Рудхоп».
— Ну, сынок, — сказал актуариус Геркулесу, — что ты об этом думаешь?
Закончив читать письмо майора Рудхопа, актуариус поневоле растрогался. Он утер глаза рукой и сказал:
— Славный мой майор! Чудо-человек! Золотое сердце! Смейся, смейся над моими слезами, непреклонный! — обратился он к сыну. — Если застанешь Рудхопа в живых, то непременно скажи моему старому другу, как тронуло меня его письмо. Скажи, что ты видел мои слезы. Я уверен, что моя слабость не будет ему неприятна.
С этими словами актуариус благоговейно сложил и убрал в стол драгоценное послание.
Нетрудно догадаться, с каким ужасом выслушал Геркулес повествование майора. Он довольно часто слышал рассказы об ужасной войне, разорявшей в то время Гвиану, и понимал, что «славный Рудхоп», как называл его актуариус, ничуть не преувеличивает.
Геркулес будто оцепенел, но он так давно привык машинально повиноваться отцу и бесстрастно вторить героическим его словоизвержениям, что не посмел возразить и на этот раз. Слушая чтение, он все время сидел как каменный, с недвижным лицом, глядя в одну точку, сложив руки на коленях.
Актуариус постоянно краем глаза поглядывал на Геркулеса — на лице молодого человека не отражалось никакого душевного движения. Ослепленный своей мечтой, отец, как всегда, принял немой ужас за высокомерное презрение к опасности. Он опять подошел к сыну и сказал ему с легким упреком:
— Никто так не восхищен твоей неустрашимостью, как я, — она делает людей, подобных тебе, нечувствительными к самым страшным опасностям, какие только может вообразить себе человек. Но всему есть граница. Признаюсь, сын мой, я думал, что тебя хоть немного взволнуют беды, перенесенные моим славным старым другом Рудхопом. Быть может, бедного майора уже нет на свете! Ведь стрелы, к несчастью, вправду могли быть отравлены, как он и полагал… Боже мой!
— Батюшка, — испуганно сказал Геркулес, — вы не думайте…
— Довольно, сын мой, — прервал его актуариус. — Мне не следовало упрекать тебя. Каждому свое. Не бывает у ястреба нежного сердца голубки; не бывает гордый лев ласков, словно ягненок. Я внимательно следил за тобой, пока читал письмо славного Рудхопа. Несчастного Дюмолара жарили на огне — ты был как каменный. Удав пожирал папашу Ван Хопа — ты был как каменный! Негры гибли под страшными пытками — ты по-прежнему сидел как каменный!
— Видите ли, батюшка…
— Господь правосуден, — продолжал актуариус с выражением глубокой философской меланхолии. — Он наказывает нас тем, что живейшие желания наши исполняет в преувеличенной степени. Я молил, чтобы сын мой был храбр, чтобы был достойным отпрыском рода Арди. Бог даровал ему смелость и отвагу, доходящие — увы! — до устрашающей нечувствительности. Так и должно было быть, да оно и к лучшему. Разлука не будет так прискорбна… для тебя — хотя бы для тебя, жестокий сын! — воскликнул актуариус с неподдельной нежностью и взволнованно простер руки к сыну.
Геркулес был сражен наповал одной только мыслью о том, какие страсти ему предстоят, однако ощущал, что как бы ни был он смертельно напуган, скорее отправится в Гвиану к майору Рудхопу, чем признается отцу в своем страхе. Итак, приступ нежности актуариуса не нашел отклика в сердце Геркулеса, тем более что самых неслыханных опасностей для себя он ожидал и от шального и воспаленного воображения своего отца, причем не без основания.
Поэтому Геркулес, не в силах оторваться от сиденья, ответил на порыв мейстера Арди лишь почтительным кивком.
— Скала! Подлинно каменное сердце! — в унынье воскликнул актуариус и уронил на колени руки, простертые было в отеческом объятии. — Что ж, должно смириться. Давно уж я живу с мыслью, что однажды мне придется расстаться с сыном. Орленок, научившийся летать, улетает из родимого гнезда и не смотрит назад… Я был готов к этому. Жертва тяжела, однако же необходима для славы семьи Арди.
Но, к счастью, предчувствие — а я твердо верю своим предчувствиям, они никогда меня не обманывали — предчувствие дозволяет и велит мне дать волю твоей отваге и страсти к приключениям. Внутренний голос говорит мне: испытав ужасающие опасности, ты вернешься ко мне — и я верю ему. Не он ли убеждал меня, что ты из того же материала, из которого делают героев? Обманул ли он меня? Нет! Ведь ты геройски нечувствителен, даже чересчур. Значит, и на сей раз он говорит правду.
Геркулес содрогнулся при мысли о том, что предвещала ему отцовская проницательность.
В эту минуту в арсенал к актуариусу вошла фрау Бальбин и доложила:
— Сударь, к вам штурман Кейзер с поручением от начальника порта; говорит, что дело очень важное.
— Пусть войдет, — со вздохом ответил актуариус.
Вошел жених молочницы Берты.
То был сильный и статный загорелый человек лет тридцати, с живым, открытым и решительным лицом, с веселыми глазами. Светлые непудреные волосы были собраны на затылке медным кольцом, под расстегнутым воротом полосатой сине-белой тельняшки видна была мускулистая, как у быка, шея. На нем была старая куртка, расшитая на воротнике и рукавах выцветшими серебряными позументами. Фламандские штаны грубого сукна были подпоясаны красной шерстяной лентой и заправлены в огромные рыбацкие сапоги, доходившие до середины бедер.
Не было во Флиссингене моряка веселее Кейзера. Многие девушки завидовали молочнице Берте, когда в воскресенье шла она на гулянье, опираясь на руку штурмана, одетого в лучшее платье с золотой медалью на серебряной цепи за спасение корабля.