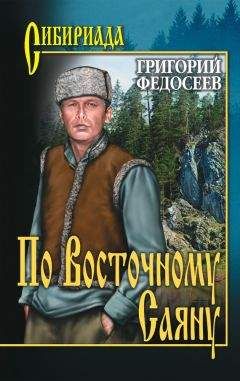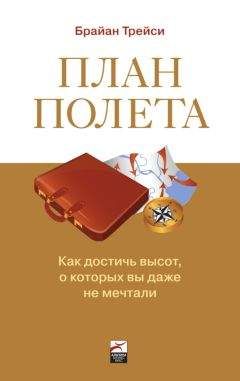На краю мари звери густо наследили, истыкали снег мордами и ушли ниже по распадку.
– Однако, промялись, где-то близко жируют, – снова шопотом рассуждает старик.
Он подошел к тонкому пню, бесшумно свалил его, разломил и набрал в карман сухой трухи. Попробуй узнай, для чего ему понадобилась гнилушка. Но я не хочу раздражать Улукиткана вопросами, делаю вид, будто все понимаю. Идем дальше. Проводник осторожно крадется между стволами деревьев, порой, приподнимаясь, по-рысиному вытягивает голову, беспокойно озирается по сторонам. Я машинально копирую его движения.
Вот мы у верхнего края второй мари, протянувшейся широкой полосой вдоль ключа. Улукиткан укорачивает шаг, чаще припадает к деревьям. Сгорбилась костлявая спина, сузились глаза.
– Тут ночевали, – шепчет он, показывая на свежие лежки и копанину, а сам, как коршун, вертит головой, сторожит местность.
Он поднимает с земли пучок лишайника, вырванного копытами зверя, осматривает, а затем дует на него, и я вижу, как сухие кристаллики снега свертываются в крошечные капельки влаги.
– Сейчас кормился. Видишь, снег на ягеле еще не успел растаять от солнышка? – поясняет старик, подавая мне лишайник.
Какая наблюдательность у этого человека!
– Однако, зверь на другой стороне мари стоит, – продолжал Улукиткан, заметно оживляясь.
Достав из кармана горсть трухи, он бросает ее вверх. Воздух окрашивается коричневой пылью, и ветерок медленно относит это коричневое облачко вниз по распадку, куда ушли сокжои.
– Скорее уходи, зверь почует нас, – торопливо шепчет мне старик и сам бросается скользящим шагом к ключу.
Размягший снег глушит шорох лыж. Улукиткан стороной обходит марь, не сводя при этом с нее глаз. Он по-юношески изворотливо скользит меж стволов деревьев, ныряет под ветки, приземляясь, ползет. На пригорке останавливается и снова бросает в воздух горсть трухи.
– Теперь дух хорошо тянет, звери нас не почуют, будем смотреть, – наставительно говорит он, прислоняясь плечом к лиственнице.
Я достаю бинокль и при первом же взгляде на нижний край мари замечаю два подозрительных серых вздутия на снежном сугробе среди копанины.
– То ли кочки со старой травой, то ли звери? – докладываю я старику.
– Эко не разберешь, сейчас лучше смотри, – отвечает он, и я слышу, как хрустнул в его руках прутик.
– Не шевелятся, кажется, кочки.
– Еще смотри, – и старик опять отламывает сухой сучок от лиственницы.
Между подозрительными бугорками отчетливо поднялась голова быка с черными пухлыми рогами. Зверь шевелит чуткими ушами, пытаясь разгадать, что за звук раздался с края мари. Не обнаружив опасности, голова скрылась за снежным сугробом.
– Звери,- шепчу я, хватая старика за руку.
– Все четыре тут?
– Видел ясно только быка.
Старик утвердительно кивает головой.
– Стельная матка днем крепко спит. – И, подав мне знак садиться, старик достает из котомки меховые чехлы, сшитые из мягких собачьих шкур наружу шерстью, и надевает их на лыжи.
– Так хорошо ходить, шуму нет, близко пустит, – поясняет он.
Затем Улукиткан высыпает на полу дошки из кожаной сумки патроны и перебирает их.
– Они же у тебя все с осечкой, – разглядев патроны, удивляюсь я. – Как же по медведю хотел итти, как стрелял бы? – шепчу я.
– Ничего, – смеется он тихо. – Из трех один, однако, разрядится!
– Зверь ждать не будет. Возьми мою винтовку, она надежнее.
– Эко надежнее, да, может, не фартовая. Старики раньше говорили: когда удача – и без ружья зверя добудешь; когда ее нет – огнем порох не запалишь!
Он закладывает один патрон в бердану, два оставляет в руке. Надевает дошку, накидывает на спину котомку и осматривается – не забыл ли чего. Все это Улукиткан делает не спеша, основательно, а я, поверив, что не моя сегодня удача, молча наблюдаю за ним.
Мы подкрадываемся к кромке леса и тут задерживаемся. До зверей остается не более трехсот метров. Я прячусь за лиственницей и наблюдаю, а старик, сгорбившись, прижал к животу бердану, бесшумно толкает вперед одетые в мягкие собачьи шкуры лыжи. Все ближе подкрадывается он к сугробам. Чуткое ухо зверя трудно обмануть. Из-под снега поднялся встревоженный бык. Заметив охотника, он замер. Поднялись и остальные. Но и старик в одно мгновенье удивительно перевоплотился: истинно пень, – и слева, и справа, как ни поверни – пень, да и только! Присматриваюсь: котомка – нарост; ствол ружья – сучок; дошка – как кора; да и сам он весь так схилился на правый бок, никак не отличишь его от пня.
Звери, доверившись глазам, отворачивают головы и долго прислушиваются, а затем лениво потягиваются, выгибая длинные туловища, оправляются от лежки. Улукиткан, не меняя позы, коротенькими шажками, сантиметров по пять, не более, подвигается к сугробам. Снова встревожились сокжои и, вытянув длинные шеи, как журавли, изумленно озираются, не могут понять, откуда доносится шорох. Но «пень» не вызывает у них подозрения, они смотрят по сторонам. Вижу, как старик, не разгибаясь, осторожно поворачивает ствол берданы в сторону сокжоев и долго целится…
«Вероятно, осечка», – с дрожью думаю я. Но вот звери вдруг бросаются к лесу, задерживаются, там топчутся на месте, не зная, куда кинуться. Улукиткан с неподражаемым спокойствием опускает ружье, медленно перезаряжает его и опять «пнем», незаметно, подвигается вперед.
– Да стреляй же скорее, уйдут! – шепчу я нетерпеливо, готовый броситься вперед.
Грохнул выстрел, я слышал, как тупо щелкнула пуля по телу зверя. Бык вздыбил, потряс в воздухе рогами, словно угрожая кому-то, и грузно упал на снег. Остальные вмиг рассыпались кто куда. Я догнал Улукиткана, и мы подошли к убитому сокжою.
Это был крупный самец в роскошной зимней шубе, с мягкими толстыми вздутиями будущих рогов, обросшими темно- бурыми волосами. Старик ощупал бока сокжоя, потоптался возле него, взглянул на небо, задернутое уже тучами.
– Однако, ночуем. Только пуганый волк уходит от жирного мяса! – сказал он тоном, не допускающим возражений.
Мы находим ровное местечко под елью, я готовлю дрова, ночлег и наблюдаю, с какой ловкостью старик свежует зверя. Зубы держат шкуру за край, левая рука оттягивает ее, а правая подрезает ножом. Ни одного лишнего или неточного движения, как у мастера, который всю свою жизнь, изо дня в день, занимается привычной работой. Старик как будто и не спешит, а туша уже вылупилась из шкуры. Тонким ножом он разделывает ее на части, разбрасывает кровавые куски на снегу. По охотничьему обычаю, он съедает кусок парной печенки и, облизывая пальцы, с аппетитом смотрит на жирную требуху.