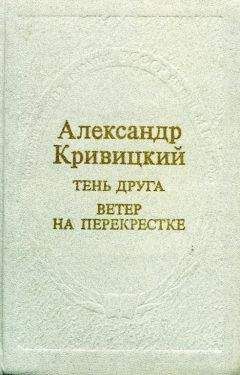При этом принцип борьбы с революцией он, конечно, признавал «своим», но не находил возможным, как он писал в письме к Герлаху 30 мая 1857 года, «проводить этот принцип в политике таким образом, чтобы даже самые отдаленные его следствия ставились выше всяких иных соображений, чтобы он, так сказать, был единственным козырем в игре и самая малая карта его побивала даже туза другой масти».
Но именно такой принцип, то есть примат политической нетерпимости над разумными компромиссами межгосударственных соглашений вводят в международный обиход люди, лишенные чувства ответственности перед человечеством.
Если обратиться к истории, то такое положение окажется характерным прежде всего для эпохи религиозных войн.
Но не только.
Разве Атлантический блок, основанный на доктрине антикоммунизма, не напоминает «Священный союз» держав, заключенный на Венском конгрессе во имя торжества принципов легитимизма? Разница, бесспорно, большая, но вспомним: европейские венценосцы присвоили себе тогда право подавить революцию в любой стране лишь на том основании, что она гипотетически могла вызвать брожение в их собственных странах.
Да, «принцип антикоммунизма» застит глаза деятелям реакции. Их не смущает тот факт, что США хотят производить нейтронное оружие именно для Европы. Они полагают, что нашему континенту еще не все на его веку досталось и что он выдержит атом плюс нейтрон не только как безнравственную схему, но и в боевом применении. Они хотят, если перефразировать метафору Бисмарка, «малую карту» своего классового эгоизма подкрепить тузом ядерной масти. Не будем говорить об исходе такой войны в целом, но что осталось бы от Европы?
Однако вернемся в кабинет генерала. Я говорю ему о циничной сути нейтронного оружия. Оно хорошо отражает низменную основу «потребительского общества». Поставленное как бы перед выбором «люди — вещи», оно убивает людей, оставляя в целости вещи. И тем не менее генерал отвечает:
— Оно не более цинично, чем любое другое.
Итак, в бундесвере есть люди, весьма благосклонно внимающие голосам, которые требуют предоставить землю ФРГ для размещения нейтронного оружия. Чуткое, настороженное ухо современного европейца ясно различает в этих голосах ноты конфронтации и милитаризма. ...Трах-та-ра-рах!
Где я нахожусь? Как будто бы уже не в кабинете генерала, а в комнате Фрица, уставленной полками и шкафами с игрушками, где и происходят битвы между оловянными солдатиками и вообще вся история со Щелкунчиком, которому однажды выбили все зубы, а потом, как известно, крестный Фрица вставил ему новые. Он снова стал грозой комнаты. Да, скажем мы словами рассказчика из этой сказки, «вы понятия не имеете, дорогие слушатели, что здесь творилось. Раз за разом бухали пушки... Бум-бурум. бум-бурум-бум... А потом снова раздавался грозный и могучий голос Щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны».
Но вот другая сторона усилила нажим, «Щелкунчик, по-видимому, был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты знаешь, о мой многоопытный в ратном деле слушатель Фриц, что подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что и бегство с поля брани. Теперь Щелкунчик, со всех сторон теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки... Гусары и драгуны резво скакали мимо него прямо в шкаф». (Как видно, опыт поколений интересовал и Гофмана. — А. К.)
Однако не вставлять же мне сюда всю сказку Гофмана. «Щелкунчик» написан в 1816 году, в нем явственны отголоски эпохи наполеоновских войн. Сатира на боевые действия адресована прусскому генералитету, высмеивает его ограниченность, неспособность правильно оценить явления реальной жизни. Грех этот, как мы знаем, переходит из поколения в поколение...
Я вспоминаю Щелкунчика и думаю: чего же он теперь хочет? Обзавестись евроракетной челюстью? Вставить себе нейтронные зубы? И какой же орех «кракатук» собирается он ими расщелкивать? А ведь заканчивается история у Гофмана так: «Вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли, почему говорят — «поди-ка, раскуси такой орех» и почему Щелкунчики так безобразны».
Прощаясь, я спросил:
— Скажите, господин генерал, могу я попросить копию стенограммы нашей беседы?
— Какой стенограммы? — удивляется генерал.
— Той, что вел этот офицер, вон он идет к двери.
— Я не приказывал стенографировать.
— Может быть, о том распорядились другие. А может быть, он вел подробный протокол. Я был бы благодарен за возможность ознакомиться. Беседа была обоюдной, а согласия на запись у меня не спросили. Поэтому прошу компенсацию в виде копии.
— Мы подумаем, — неожиданно сказал генерал.
Копии я не получил. Да она мне и не была нужна. Беседу я воспроизвел точно, поскольку еще в машине, на пути к отелю, стал, по свежей памяти, записывать ее слово в слово.
Подполковник Лер провожал меня через всю территорию до комендатуры. Мы молчали. Ветер шевелил полотнище на флагштоке. Я посмотрел на спутника и спросил: «Вы чем-то недовольны?» Лер на этот раз ответил без улыбки, хоть бы и уксусной: «Я недоволен этой беседой» — и твердо сжал губы. Я понял так, что уж он-то задал бы мне перцу.
И тогда я подумал: возможно, генерал Петер Тандески, как бы это сказать деликатнее, умнее, чем он выглядел в этой беседе. Защищать нейтронное оружие, исходя из законов нормальной логики, — невозможно. Аргументов в его пользу, вне круга классовых интересов, да еще понятых самоубийственно, не существует в природе. Отрицать роль бундесвера как ударной силы НАТО, простирающей руки к этому оружию, тоже смешно. Не знаю, как выглядел бы в беседе на эти темы подполковник Лер. Впрочем, какое это имеет значение.
1Золотой день стоит над Мюнхеном. Медлительно катит свои воды Изар сквозь город, обладающий способностью врываться на страницы немецкой истории в самых неожиданных обличьях. Политическая грамматика числит Мюнхен и как имя нарицательное. 28 сентября 1938 года город дал свое название соглашению, которое предало Чехословакию, распахнуло ворота второй мировой войны и означало триумф слепого классового эгоизма. В многовековых биографиях человеческих поселений чего только не бывает! Но все же...
Гейне, конечно, был прав, утверждая, что в Мюнхене, как в сцене с ведьмами из «Макбета», можно наблюдать вереницу духов в хронологическом порядке, начиная от дикого темного духа средневековья и кончая просвещенным духом нашего времени. Я ехал в Мюнхен, и цепь невольных ассоциаций позвякивала в сознании кандальным звоном, неумолчно напоминающим призраки Дахау, расположенного невдалеке от этого самого центра Баварии.