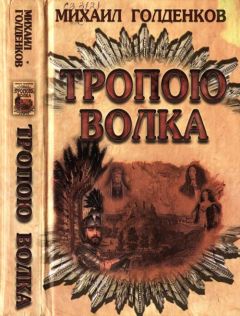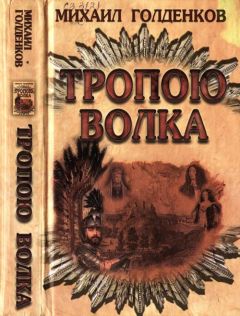— Виват! Дождались! — и слезы радости текли по его морщинистым щекам.
Дети шести, семи и десяти лет с удивлением взирали на литвинских всадников, ибо никогда таковых не видели за свою короткую, но насыщенную тревожными событиями жизнь… Плевако ехал рядом с Еленой. Он узнавал и не узнавал родной город, который производил на него тягостное впечатление: многие обгоревшие дома стояли нежилыми, от некоторых зданий остались лишь руины… Так, за Вострой Брамой вместо православной церкви, куца часто ходил Плевако, теперь парень видел лишь большую кучу кирпича, обгоревших свай и щебня. От блеска довоенной Вильны мало что осталось…
Нечто похожее на торжественную встречу состоялось на центральной площади. Тут толпились люди: человек восемь-девять стрельцов в разноцветной форме — двое в зеленых, двое в вишневых, по одному в сером, черном, синем и желтом кафтанах — явно представители разных стрелецких приказов, держащие склоненные знамена своих подразделений. Рядом с ними переминались с ноги на ногу виленцы, человек пять. В черном лютеранском платье, мятом и слегка побитом молью — видимо, пять лет оккупации хранившемся в плотном шкафу, — в центре стоял бурмистр, в компании с двумя протестантскими и двумя православными священниками, держа в руках фиолетовую бархатную подушку, на которой лежал большой медный ключ — ключ от Вильны.
Богуслав спрыгнул с коня и подошел к этим представителям местной власти, милостиво отвесив им поклон. Бурмистр трясущимися руками протянул князю подушку с ключом. Губы бурмистра дрожали от волнения, он не мог произнести ни слова, лишь что-то взволнованно булькая. Богуслав элегантным движением принял из рук бурмистра ключ, пока стрельцы подходили и бросали знамена к его блестящим коричневым ботфортам с серебряными пряжками. Богуслав, не обращая на стрельцов внимания, высоко воздел ключ над головой. К этому времени на площади собрался городской люд — человек около тысячи. Елена своим наметанным партизанским глазом практически точно определила число людей, подумав, что это наверняка все жители города, что в состоянии передвигаться сами.
— Вы вновь свободны, граждане Вильны! — крикнул Богуслав, потрясая в воздухе увесистым ключом от города. — Враг разбит! Город вновь наш! Виктория! Виват!
И только сейчас лица людей просияли, и они радостно закричали, вверх полетели шляпы, а стрельцы испуганно жались друг к другу. Но их никто не трогал. Все взгляды людей были устремлены на Богуслава, красивую блондинку, восседавшую рядом с Радзивилл ом, на литвинских драгун…
Плевако плакал. Его сердце разрывалось между горем и счастьем. А вот по лицу Елены трудно было угадать ее чувства. Казалось, Елена совершенно безразлично взирала на упавшие к их ногам знамена стрельцов, на ключ от Вильны в торжествующей руке Радзивилла… Перед ее глазами всплывала похожая сцена: Смоленск и уход из города гарнизона Обуховича, литвины складывали знамена к ногам царя, уходили прочь от сдавшегося врагу израненного города… Именно тогда она, семнадцатилетняя девушка, поклялась самой себе сделать все, чтобы захватчики точно так же сложили знамена и к ее ногам — ногам Елены, ибо падение родного города она воспринимала как огромную личную трагедию, настолько большую, что даже не было желания возвращаться к этот город когда-либо. Смоленск умер для нее. Жило лишь желание мести. И вот царские знамена у ее ног… Мечта сбылась.
Но Елена не чувствовала счастья, но лишь усталое удовлетворение и желание… умереть. Больше в жизни ей желать было нечего. Уход Кмитича был последней крупной потерей в ее жизни. Ее возлюбленный уже никогда не вернется к ней, он никогда по-настоящему ей и не принадлежал, как и никогда не было у Елены прав на него, а у него на нее — так она решила, так оно и было. «Теперь можно и исчезнуть, — думала Елена, — а врага добьют и без участия непонятной Багровой, чью душу и сердце изуродовала эта война…»
* * *
Несмотря на самую теплую атмосферу приема короля Речи Посполитой, Жаромский и остальные конфедераты не желали более плясать под его дудку. Они отказывались немедля в союзе с казаками и крымскими татарами идти на Москву, как того просил король, но собирались провести конец года в Кобринской экономии, отдохнуть и собрать подкрепление.
— Панове! Любые мои сябры и браты! — заступался за короля Кмитич на всеобщем совете, проходившем под открытым небом. — Врага надо добить! Нужно не просто прогнать бешеного хищника, а уничтожить в самом его логове, иначе худо нам придется в будущем. Вновь соберет царь силы и вернется!
— Пустое, пан Кмитич! — кричал осмелевший Жаромский. — Мы так добро дали прикурить московитам Хованского, что у них нет ни сил, ни желания сражаться здесь! Где соберут новые силы? Их нет у них! А нам неплохо бы тоже зализать раны, расплатиться с солдатами. Передохнуть после дел ратных нужно! Мы люди не железные!
Жаромского шумно поддерживали все остальные полковники. От войны, похоже, устали настолько, что радовались, словно дети, малейшей передышке. Король и Кмитич оказались в отчаянном меньшинстве, но со своей немногочисленной хоругвью Кмитич преследовать московитов не решался. Пусть его и разозлило желание конфедератов не добивать врага, оршанский князь тоже решил вогнать саблю в ножны и поиметь-таки выгоду из создавшегося положения. Уже на следующий день после собрания Кмитич направил своего коня по виленской дороге в Кей-даны, куда с маленьким Янушем поехала и его Алеся. Кмитичу ужасно хотелось присоединиться вновь к отряду Елены, освободить вместе с ней столицу, по-настоящему попрощаться в конце концов, но… его ждали в Кейданах. Туда он спешил не меньше.
А война, словно побитый и израненный нордическими асами дракон Фефнир, медленно уползала в свое глубокое подземное логово. «Как жить-то теперь начнем?» — думал Кмитич, грустно взирая на попадавшиеся ему по дороге руины и обгоревшие остовы хат. Но встречались и целые. И вот уже, сидя в седле, вращая ручку своей лиры, Кмитич радостно горланил песню «Вітаўт слаўны княжа наш». Жизнь возвращалась. Женщины, пусть и немного запоздало, расстилали на лугу под скупым ноябрьским солнцем лен, весело распевая:
Конь воду п ’е, п,е.
Ножкою б ’е, б ’е,
Уцякай, Кася,
Бо цябе заб’е…
Они, выпрямившись, смотрели в сторону веселого всадника с лирой, улыбались, махали ему руками. Кмитич махал им в ответ своей мохнатой шапкой. Глядя, как по дороге ему навстречу со стороны Жмайтии едут три груженные разнообразным добром телеги, Кмитич вновь снимал свою соболиную шапку с ястребиными перьями, приветствуя и их. Люди, на вид обычные горожане, также смотрели на Кмитича, улыбаясь ему, возницы снимали свои фетровые широкополые шляпы, кланялись. Как в легендарном Рагнареке после пламени великана Сурта и гибели многих богов вновь всходило солнце, еще ярче и прекраснее прежнего, а схоронившиеся в роще Ходдмимир люди Лив и Ливтрасир выходили, чтобы продолжить жизнь… Зима же в тот год выдалась теплой. И даже реки не покрылись льдом.