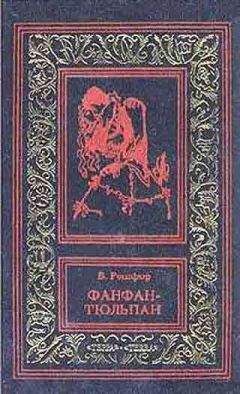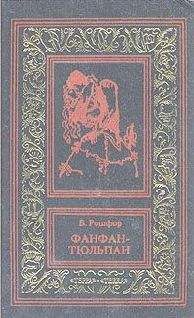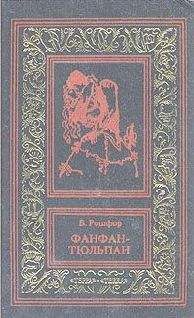— Можете войти, — сказала акушерка, открыв дверь, и её запавшие губы улыбались. Человек последовал за ней к постели на которой лежала Жанна, бледная, со спутанными волосами, слипшимися от пота на висках и лбу, с закрытыми глазами и как будто неживая. На её руке лежал маленький розовый сверток, откуда доносился отчаянный плач.
— Мальчик, — сообщила акушерка. — Крупный, фунтов семь весом. Дай-то Бог, чтоб был таким же красивым, как его мать, и с такими же красивыми глазами!
— Дай Бог! — повторил мужчина. — А что с Жанной, все в порядке?
— Я зайду вечером, — женщина, качая головой, собирала вещи и повязывала на голову платок.
— Спасибо, мадам Бирабин, — сказал мужчина провожая её к дверям.
— Вот не думала, что вас ещё увижу, — уже взявшись за щеколду, сказала акушерка. — Это ж сколько лет, как вы отсюда уехали?
— Двенадцать или тринадцать, — ответил мужчина.
— Это надо же: пятнадцать лет назад я помогала появиться на свет Жанне, а теперь — её сыну! С Анной все в порядке?
— Да. Это она захотела, чтобы Жанна родила здесь. Доверяет только вам… знаете она боялась! Жанна так молода!
— Я как знала, что ещё придете за мной! — ответила мадам Бирабин. Рада и её увидеть бы снова!
— Анна, разумеется, собиралась приехать, только этот маленький негодяй вылез месяцем раньше! — хохотнул мужчина.
Когда акушерка ушла, он вернулся в комнату и поправил огонь в камине. Жанна и ребенок, казалось, уснули.
Через десять дней Анна Рансон получила письмо, отправленное из Вокулерса и подписанное неким Вобернье — ибо человеком, жившим вместе с Жанной в Вокулерсе с середины декабря был никто иной как брат Анже, чья фамилия была Вобернье.
"У Вас внук! Довольно крупный. Видимо, недолго ему сосать материнскую грудь — слишком мало молока. А сегодня он окрещен в местной церкви, как и мать его в 1743 году, крестным отцом был я, крестной матерью — Джулия Бирабин, которая передает Вам привет и у которой не осталось уже ни одного зуба. Дали имя Франсуа, ведь в конце концов он из французского рода, и будет французом, что бы ни случилось. Я тут начал заниматься продажей вашего дома; в свое время Вы совершили ошибку, по сентиментальным мотивам не решившись его продать — время и погода нанесли ему изрядный урон. Если Вы напишете дочери пару слов, это ей пойдет на пользу, потому что нужно признать — она довольно несчастна!" Это "довольно несчастна" было слабо сказано: Жанна непрерывно плакала. Все это — видеть окружающую нищету вместо мечты о замках, видеть маленького Франсуа в бедной корзине из ивовых прутьев, когда она представляла изумительные колыбельки кедрового дерева, обитые атласом, быть снова совсем одной в жуткой тишине морозной ночи, вместо великолепного окружения блестящих светских людей — это приводило в отчаяние!
Жанне казалось, что жизнь её кончена, разумеется, та жизнь, на которую она надеялась — потому что случилось непоправимое! И что ужаснее — что Фортуна повернулась к ней спиной или то, что она навсегда утратила Луи? Как Луи страдал! Но и как он ей отплатил!
— О, брат Анже, это была ошибка, — непрестанно повторяла Жанна, не способная забыть о той ужасной ночи. — Я упала на постель… и почти потеряла сознание…
— Успокойся, — уговаривал тот, — я и так все знаю.
Жанна снова начинала свое, в истерике переходя от слез к ярости, вновь и вновь в воспоминаниях возвращаясь к событиям роковой ночи.
Герцог Орлеанский, который вовсе не был при смерти, как о том говорили, возвратился в ту ночь верхом из Баньоля, чтобы после двух недель поста снова насладиться своим ангелом. Пробежав кабинет, полный света, где в камине горело пламя, он шагнул в спальню, на ходу расстегивая панталоны,… и увидел Жанну, лежащую животом на постели, а на ней — двадцатилетнего брата Геродота, повара, которого монахи отрядили в распоряжение Монсеньора: брат Геродот рьяно делал свое дело, и если бы на балдахине ещё оставались ангелы, то не миновать бы обвала! Жуткий миг — и Монсеньор никогда в жизни не забудет пухлой розовый зад брата Геродота!
Последовала ужасная сцена: схваченный за шкирку брат Геродот был брошен оземь, отхожен тростью, за ноги протащен до дверей и вышвырнут на каменные ступени, словно дохлая крыса.
А потом бедная головка потрясенной Жанны начала летать туда-сюда от пощечин. И напрасно она кричала:
— Я же думала, что это вы! Я спала! Я выпила!
— Вы никогда не пьете больше нескольких глотков! Вы пили затем, чтобы заглушить стыд!
— Он взял меня сзади!
— Потому что вы сами улеглись на живот!
— Я вам говорю, что вообще его не видела!
— И притом были нагишом и увешанная всеми моими драгоценностями! Что для вас монахи, что герцог!
— Луи!
— Замолчите! Если б я не презирал вас так, то убил бы!
Среди ночи герцог отвез её домой в том же маленьком сером экипаже, который сам запряг. Открыла ему Анна Рансон. Что за зрелище? Монсеньор, уже не бешеный от ярости, но холодный, словно лед — держал за ухо Жанну, бледную, как смерть.
— Возвращаю её вам, мадам! Я только что обнаружил её в моей собственной постели, только вместо меня её обслуживал некий монах! Знал я, что она набожна, но не до такой же степени! И хотел бы я, чтобы вы слышали, как она истово молилась!
Но худшее было ещё впереди: Монсеньор швырнул наземь мешочек, из которого к ногам Жанны высыпались золотые монеты.
— За оказанные услуги! — герцог хлопнул дверьми. И небольшой серый экипаж, запряженный смирными лошадками, удалился во мраке ночи навсегда!
***
Для Жанны настали нелегкие дни. Что только не пришлось ей выслушать! И не от мужчин, которые и голоса не подавали, слишком уж расстроенные таким финалом, — а от своей собственной матери!
— Наставлять рога герцогу! Герцогу! Это неслыханно! Во Франции всего-то пять герцогов, тебе достался один из них, причем лучший, и ты ему наставляешь рога?!
Это повторялось тысячекратно, и тысячекратно завершалось так:
— А теперь останешься одна с бастардом![1]
— Он и так бы был бастардом!
— Ах, оставь, девочка. Есть бастард и бастард! И о твоем, можешь быть уверена, черта с два его отец позаботится.
— Но ведь он его отец!
— Но ведь ты-то не его возлюбленная! Боже, чем я согрешила, что ты так караешь?
Наконец, после месяца адских мучений брат Анже отвез Жанну в Вокулерс. Но не потому, что он сказал мадам Бирабин, а скорее от того, что Анна буквально видеть не могла неблагодарную дочь, что разрушила её радужные ожидания. Но это было к лучшему: такая жизнь была просто непереносима!