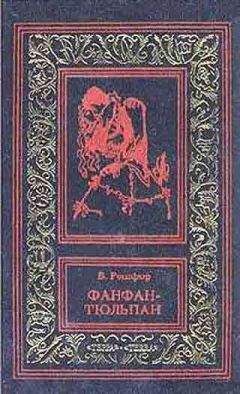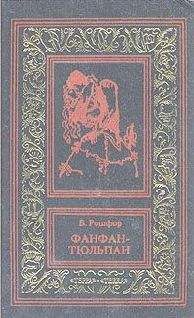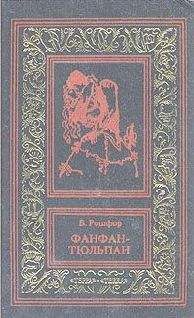В квартале был один приют — приют Святой Троицы на рю Гренета который давал кров и стол ста тридцати шести бедным детям — ста мальчикам и тридцати шести девочкам. Тех называли "Синими детьми" по цвету их одежды и чепцов. Приют использовал их на похоронах богачей, чтобы похоронная процессия выглядела подлиннее. Цена разумная — три ливра за дюжину — то есть за дюжину детей. Наследники платили после мессы. Потом казначей приюта собирал деньги и дети возвращались обратно, а Фанфан — сам по себе, поскольку вовсе не был членом братства, а их одежды изготовил сам, отдав в покраску старую ночную сорочку и чепец красильщику Валхуссару с рю де ля Коссопери, который взялся с радостью, поскольку Фанфан нашивал ему записочки от мадам Аймер — что та в такую-то ночь свободна, когда её муж, стражник Аймер, был на службе.
И вот Фанфан с успехом сопровождал похоронные процессии до самого кладбища. Никто из опечаленных родственников в нем никогда не сомневался, напротив, все считали весьма любезным со стороны приюта прислать детей сверх уговора — тем более, что Фанфан своим нежнейшим дискантом прекрасно распевал хоралы и мог до слез растрогать даже тех, кто ничего не унаследовал. В особенно удачные дни ему в карман перепадало до трех ливров! Но все он тратил на драже в "Ле Фидель Бержер". Потом делился и с Гужоном, щеголявшим грязными повязками, и с Николя Безымянным, чья мать была проституткой с рю де Лавандье Сент-Оппортюш и мучила Николя тем, что учила его читать и писать, и со Святым Отцом, которого так звали потому, что был он сыном канонника. Короче говоря, Фанфан щедро делился своими трофеями со всей своей компанией! Сен-Пер, или Святой Отец, будучи сыном канонника, был круглым сиротой, поэтому жил с Николя Безымянным у его матери, которая легко относилась не только к мужчинам, но и к заботам о чужом ребенке. И был ещё тут Пастенак, горбун, но тот их предал! Подростки, говоря о нем, непременно прибавляли к имени всякие ругательные прозвища и божились, что когда вырастут, пойдут к колдунье, чтоб та проткнула куклу Пастенака каленой иглой.
Не так давно — когда им было лет по пять, по шесть — они с Пастенаком вместе образовали шайку сорванцов, которая начала красть овощи с лотков, переворачивать тележки с зеленью, задирать ребят, не столь безумно смелых или лучше одетых, — однако слишком часто получали пинки под зад или хорошую трепку (и однажды даже просидели четыре дня в вонючей каталажке, а вернувшись домой, вместо утешения получили хорошую порку) — и это, наконец, их отучило корчить из себя Бог весть кого. Так что потом они предпочитали действовать хитростью, хоть время от времени и воровали кое-что с лотков, чтоб показать, что они не хуже других. Один лишь Пастенак продолжал действовать по старому, обзывая их трусами. И наконец их предал — тем, что перешел в банду Картуша, совсем другую банду, из настоящих парней (им было уже лет по двенадцать), которые отваживались даже раздеть ночного прохожего. Они были не совсем из их квартала, скорее с площади Бастилии, но иногда орудовали и здесь.
— Ты своего Картуша, — орал Фанфан на изменника Пастенака, — ты своего Картуша можешь засунуть знаешь куда!
— Да он на тебя только глянет, и ты наложишь в штаны, — отвечал Пастенак.
Потом последовала встреча на высшем уровне. Картуш послал к Фанфану своего помощника и предложил встретиться на следующей неделе в задней комнате "Кафе л'Эпи" на рю Нуар за Бастилией, где у него была штаб-квартира. Фанфану это место не нравилось, но он пошел туда с Гужоном, Святым Отцом и Николя Безымянным. Всего их собралось там человек десять, почти всем по двенадцать, кроме Картуша, которому уже было семнадцать. До этого Фанфан видел Картуша только издали. Да, это был гигант!
— Ты что, посмел меня послать?! — вскричал тот, ударив кулаком в кулак — огромным кулачищем! Недостававшие спереди три зуба делали оскал Картуша ещё страшнее.
— Я — нет. Я только сказал Пастенаку, что может сунуть тебя в задницу!
И тут повисла мертвая тишина, как в старые времена в римском цирке перед выпуском львов на арену с христианами. Картуш шагнул к Фанфану, но тот не отступил, стремясь выдержать ужасный взгляд гиганта, хотя почувствовав, что в самом деле может наложить в штаны, предпочел найти выход в дипломатии.
— Достойно ли мужчины бить маленького мальчика?
От этого вопроса наморщилось немало лбов, которым редко приходилось решать этические вопросы. От тяжких размышлений у Картуша глаза едва не вылезли на лоб, и он окинул взглядом свою команду, которая, казалось, не дышала.
— Я бить тебя не собираюсь! — заявил он наконец, и удивился сам своему благородству. — Но требую, чтоб ты мне впредь выказывал надлежащее почтение, поскольку я — Картуш, а ты — сопляк паршивый!
— Мне уже семь, — ответил Фанфан, — и сопляком я не был и не буду!
Казалось, первый тур закончился вничью, если принять в расчет разницу в возрасте соперников. Картуш сел, закрыл глаза и так начался второй тур. Авторитет и престиж Картуша опирались не только на его геркулесову силу, но прежде всего на то, что он был не просто бургундцем, а внуком того Картуша, что колесован был на Гревской площади в 1721 году. И вот теперь он с наслаждением рассказывал о своем деде, о его жизни и карьере, о его подвигах, грабежах, кражах, убийствах и о его мученической смерти. Долгую речь, произнесенную в почтительном молчании, он завершил так: — А ты кто такой? — и повернулся к Фанфану. — До моего роста ты, может, и дорастешь, но вот насчет предков… тут тебе, сопляк, пришлось бы родиться заново!
— Покажи ему ногу! — шепнул Гужон Фанфану и тот снял левый башмак, достал из кармана зеркальце, с которым именно из-за этого никогда не расставался, и каждому показал татуировку на своей стопе: угольник и слово "Эгалите". Поскольку кроме него читать тут никто не умел, он пояснил: — Это значит "Эгалите" — "Равенство".
Как у Картуша на его предках, престиж Фанфана в большей степени опирался на его татуировку; подействовало и на этот раз — в банде Картуша о таком и не слыхивали.
— Ты знаешь, что это означает? — спросил потрясенный Картуш.
— Конечно! — заявил Фанфан, понятия об этом не имевший. — Угольник представляет ложе королевы. "Эгалите" — значит равенство с королем. Мой дед спал с королевой и стал равен королю!
— С которой королевой? — спросил Картуш.
— Это я смогу раскрыть только в день своего восемнадцатилетия, ответил Фанфан. — Но скажу только тебе, это обещаю!
Так и прошел поединок двух главарей. Он мог бы кончиться заключением мира, но на деле не вышло ни мира, ни войны, поскольку оба главаря не виделись потом целых два года.