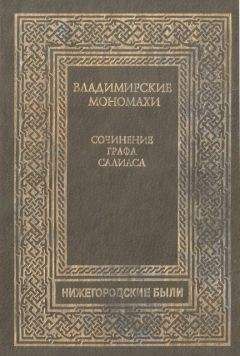Доманский, хорошо знавший характер Алины, изучивший ее до тонкости, знал слабые струны ее натуры. Достаточно было Алине в своем воображении увидеть другую личность, играющую ее роль, вдобавок еще на основании ее отказа от своих прав, – чтобы красавица снова предалась вполне своим мечтам и в полное распоряжение конфедерации.
Алина с некоторого рода самодовольством заметила Доманскому, что ее брат, князь Разумовский, или маркиз Пугачев, не брат ей и не маркиз, и не Разумовский, а беглый из острога казак.
Доманского заметно покоробило.
– И это еще не все, – прибавила Алина. – Он разбит войсками Екатерины и, быть может, уже снова в остроге!
Доманский долго и горячо доказывал Алине, что ее сведения – хитрые козни врагов и наглая ложь. Пугачев, или Разумовский, – действительно брат ее.
– Но главное не в этом! – сказал Доманский торжественно и, вынув из портфеля несколько немецких газет, попросил ее прочесть их. Алина взяла газеты и по мере чтения их волновалась и вскрикивала…
Она узнала вдруг, что генерал Бибиков умер или убит. Пугачев двигается победоносно на Великую Россию – la Grande Russie, а вместе с тем в европейских делах почти переворот… Скончался Людовик XV!
Алина была побеждена…
Оставшись одна после беседы с Доманским, Алина просидела несколько часов в полной нерешительности; но вдруг у нее возник вопрос: если она отправится в Константинополь, и вдруг султан не примет ее как принцессу Российскую, отнесется к ней неприязненно и не окружит ее должным почетом? если затем она отправится на Дунай, где русские войска не захотят признать ее? если все, что говорится Радзивиллом, пустые бредни, и армия на ее призывные манифесты ответит смехом или равнодушием?
Что же тогда будет?.. Разве какая беда, какое несчастье? Разве тогда все пропало и нет возврата, нет возможности вернуться в Европу, затем в тот же Оберштейн? Разве, воротившись с берегов Дуная в Лимбург, она не может снова выйти замуж за герцога? Ведь герцог сватался за нее, когда она толковала о России, о своих правах и о поездке в Константинополь как о мечтах почти несбыточных.
Уверение Шенка, что она может попасть в тюрьму в Константинополе или будет взята в плен вместе с турецкой армией, наконец, может быть схвачена и отвезена в Петербург и сослана в Сибирь, – все это действительно пустые мечтания, настоящий вздор, навеянный Шенку его привязанностью к ней.
Между тем Доманский отправился объясниться с самим бароном. Когда-то в Оберштейне Доманский имел неосторожность не понять значения Шенка как друга Алины. Правда, он победил его тогда. Но зато теперь в отсутствие Доманского Шенк снова приобрел на Алину прежнее влияние и заставил ее отказаться от всего.
Пока Алина раздумывала о своей беседе с Доманским, сам он говорил с Шенком совершенно о том же. Передав ему весть о новых политических событиях, Доманский поставил тот же вопрос:
– В чем же, наконец, опасность предприятия, какая беда в том, что Алина пройдется в Константинополь и даже на Дунай? Разве отнимется у нее возможность вернуться снова в Европу и иметь то же прежнее общественное положение?
Шенк заметил на это Доманскому, что он боится для своего друга совершенно иного исхода. Он верил, что русская армия присягнет принцессе хотя бы ради того, чтоб прекратить кровопролитную кампанию и вернуться по домам. Но когда эта армия, измученная войной, будет на полпути в Москву, императрица выставит против нее другие, свежие войска. Эта армия бунтовщиков, с принцессой во главе, не знающей России, не говорящей даже по-русски, будет, конечно, уничтожена. Генералы и офицеры отправятся в Сибирь или будут посажены на кол, а бедная Алина… Что с нею будет?!
На подобного рода аргументы Доманскому, конечно, нечего было отвечать. Вместо картины, которую нарисовал Шенк, Доманский только мог нарисовать другую: победоносное шествие армии, триумфальное вступление и занятие Москвы, празднества по случаю восшествия на престол законной дочери Елизаветы и внучки Петра Великого, заточение иностранной принцессы, уроженки какого-то маленького герцогства.
Несколько часов кряду проговорили два врага – холодно, бесстрастно, неприязненно, и беседа эта не привела ни к какому решению.
Всю эту ночь ни Алина, ни двое врагов не спали, взволнованные тем, что делать и как решить вопрос.
Наутро, однако, Алина решилась снова повиноваться своей судьбе, куда она влекла ее. Шенк решил только одно: если Алина двинется в Венецию, чтобы начинать свой поход, свое предприятие, то не покидать ее, не исчезать, как прежде, а быть при ней неотступно и вместе с нею погибнуть, если это нужно.
Доманский, недаром когда-то воспитывавшийся в школе иезуитов, решил взяться за дело совершенно иначе. Он когда-то в Оберштейне слышал от Алины, что ее друг, барон Шенк, не только не барон, но даже и не Шенк, а просто авантюрист без роду и племени, который сумел почти до сорока лет прожить в Европе без всяких документов. Он знал от Алины, что это положение для Шенка составляет его больное место, слабую струну, и Доманский, вспомнив это, в четверть часа решил, что делать. Его только смущала мысль, что Шенк не способен продать свою приятельницу даже за дорогую цену.
Средство, которое придумал Доманский, чтобы победить упорство Шенка, было очень простое. Польский магнат палатина [34] виленского имел право, освященное и законом и обычаем, производить своих крепостных в дворяне и давать им всяческие дипломы. Разумеется, в настоящем положении эмигранта Радзивилл мог ссудить Шенка лишь наполовину законными документами, но Доманский понимал хорошо, что для Шенка это безразлично, лишь бы документы, выданные Радзивиллом, были законными в глазах властей различных европейских государств, а для этого стоило только дать патент задним числом и послать его в Париж – для узаконения посланником Огинским.
Хотя отношения Огинского и Радзивилла были теперь официально холодны, так как Радзивилл считался главным врагом Понятовского, но Огинский, исправлявший должность посла, все-таки был прежде всего патриот и в душе был бы очень рад, если б на польский престол вступил другой король, избранный народом, а не навязанный русским правительством. Последствием этого был бы, конечно, возврат утерянных провинций. Следовательно, Огинский с удовольствием исполнит маленькую просьбу Радзивилла.
Наутро дело окончилось скоро. Безнравственный, преступный эгоист и циник, сделавшийся вдруг, под влиянием чистого чувства дружбы к авантюристке, честным человеком, не устоял, однако, когда дело зашло об исполнении, об осуществлении заветной мечты.
Все удавалось Шенку всю его жизнь, когда он был неразборчив в средствах достижения цели. И чего только не совершал он за всю свою жизнь – от маленького шулерства в картах и пустой кражи денег до настоящего разбоя и, наконец, убийства, – и все сходило с рук.