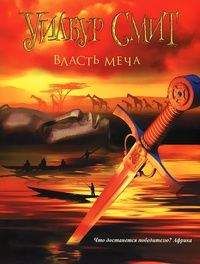– Ты ошибаешься! – Лицо Манфреда застыло, голос стал резким. – Наш день придет, он уже забрезжил. Угнетению конец.
Он хотел все рассказать отцу, но вспомнил клятву на крови и замолчал.
– Мэнни. – Отец наклонился ближе, обвел камеру взглядом, как заговорщик, и потянул Манфреда за рукав. – Алмазы – они еще у тебя? – спросил он и сразу увидел ответ на лице сына.
– Что с ними случилось? – На отчаяние Лотара трудно было смотреть. – Они мое наследство тебе, все, что я смог тебе оставить. Где они?
– Дядя Тромп… он нашел их много лет назад. Он сказал, что они зло, порождение дьявола, и заставил меня уничтожить их.
– Уничтожить?
Лотар недоверчиво посмотрел на него.
– Раздробить на наковальне молотом. Превратить в порошок – все камни.
Манфред видел, как вспыхнул старый боевой дух отца. Лотар вскочил и гневно прошелся по камере.
– Тромп Бирман, если бы я мог до тебя добраться! Ты всегда был упрямым ханжой и лицемером…
Он замолчал и вернулся к сыну.
– Мэнни, есть другие. Помнишь – холм в пустыне? Я оставил их там для тебя. Ты должен вернуться за ними.
Манфред отвернулся. Долгие годы он старался изгнать из сознания это воспоминание. Воспоминание о большом зле, связанное с ужасом, и виной, и горем. Он пытался похоронить эту часть своей жизни. Прошло много лет, и он почти преуспел, но теперь, после слов отца, вновь ощутил в горле гнилостный вкус и увидел, как сумка с сокровищем исчезает в глубокой расщелине.
– Я забыл дорогу, папа. Я не смогу туда добраться.
Лотар потянул его за руку.
– Хендрик! – сказал он. – Сварт Хендрик! Он знает. Он сможет тебя отвести.
– Хендрик. – Манфред моргнул. Имя, полузабытое, часть прошлого; неожиданно он отчетливо увидел большую лысую голову, это пушечное ядро. – Хендрик, – повторил он. – Но он исчез. Я не знаю куда. Исчез в пустыне. Я не смогу его найти.
– Нет, нет! Мэнни, Хендрик здесь, он где-то поблизости от Витватерсранда. Он теперь большой человек, вождь своего народа.
– Откуда ты знаешь, папа?
– Виноградная линия![46] Мы здесь все знаем. Нам с воли сообщают новости, передают послания. Мы все слышим. Хендрик прислал мне весточку. Он не забыл меня. Мы были товарищами. Мы вместе проехали десять тысяч миль и сражались в сотне битв. Он прислал мне весточку и назначил место, где я смогу его найти, если мне удастся уйти из этих проклятых стен. – Лотар наклонился, схватил сына за голову, притянул к себе, прижал губы к его уху и лихорадочно зашептал. Потом снова откинулся. – Ты должен пойти и найти его там. Он отведет тебя к гранитному холму у реки Окаванго – и, милостивый Боже, как я хотел бы снова ехать с тобой по пустыне!
В замке загремел ключ. Лотар отчаянно затряс руку Манфреда.
– Обещай, что поедешь туда, Мэнни.
– Папа, эти камни – зло.
– Обещай мне, сын, скажи, что я не зря провел эти годы в заключении. Обещай, что вернешься за камнями.
– Обещаю, папа, – прошептал Манфред. В камеру вошел дежурный.
– Пора. Извини.
– Я могу снова прийти к отцу завтра?
Дежурный покачал головой.
– Одно посещение в месяц.
– Я буду писать тебе, папа. – Он повернулся к Лотару и обнял его. – Отныне буду писать тебе каждую неделю.
Но Лотар бесстрастно кивнул; его лицо окаменело, глаза стали непроницаемы.
– Ja, – кивнул он. – Пиши иногда. – И он, шаркая, вышел из камеры.
Манфред смотрел на закрывшуюся стальную зеленую дверь, пока дежурный не тронул его за плечо.
– Идемте.
Манфред пошел за ним в приемную, испытывая противоречивые чувства. И только когда вышел за ворота на солнечный свет и посмотрел на высокое голубое африканское небо, о котором с такой тоской говорил его отец, одно чувство вырвалось наружу и победило остальные.
Гнев, слепой безнадежный гнев. Все последующие дни этот гнев рос и достиг высшего накала, когда Манфред шел по проходу между рядами орущих, неистовствующих зрителей к ярко освещенному рингу за канатами, одетый в переливчатый шелк, в перчатках из красной кожи на руках и с жаждой убийства в сердце.
* * *
Сантэн проснулась задолго до Блэйна; ей жаль было каждой секунды, потраченной на сон. Снаружи было еще темно, потому что коттедж стоял под склонами высокой Столовой горы, которая закрывала своей громадой рассвет, хотя в маленьком огороженном саду уже чирикали и сонно пищали птицы. Сантэн приказала перебросить через каменную ограду ветви такомы и жимолости, чтобы привлечь птиц, и по ее распоряжению садовники каждый день подсыпали корм в кормушки.
Ей потребовались месяцы, чтобы создать совершенный дом. Незаметно расположенный, с укрытой стоянкой для ее «даймлера» и нового «бентли» Блэйна – машин, которые сразу привлекают внимание; не более чем в десяти минутах ходьбы от парламента и кабинета Блэйна в крыле внушительного здания, построенного по проекту Херберта Бейкера[47] и отведенного правительству. Из дома должен был открываться вид на гору, а сам дом должен был располагаться в одном из переулков не самого модного пригорода, где маловероятна встреча с друзьями, деловыми партнерами, парламентариями, врагами или журналистами. Но прежде всего он должен был создавать особое ощущение.
Когда Сантэн впервые вошла в этом дом, она не увидела ни поблекшие грязные обои, ни потрепанные ковры на полу. Она стояла в центральной комнате и улыбалась.
«Здесь жили счастливые люди. Да, этот дом подходит. Я его возьму».
Она зарегистрировала право собственности в одной из компаний своего холдинга, но не доверила обновление дома ни архитектору, ни декоратору. И единолично продумала переделку и проследила за ее осуществлением.
«Это должно быть лучшее в мире любовное гнездышко».
Она, как обычно, нацелилась на почти недостижимые стандарты и каждое утро, пока шла работа, консультировалась с зодчим, его плотниками, водопроводчиками, малярами. Они снесли стены между четырьмя крошечными спальнями и превратили их в единый будуар с французскими окнами, открывающимися в уединенный сад с высокими стенами из желтого песчаника со Столовой Горы, откуда открывался прекрасный вид на серые утесы.
Она устроила отдельные ванные для Блэйна и для себя: для него – отделанную итальянским кремовым мрамором с рубиновыми прожилками и с кранами и ручками в виде золотых дельфинов; для себя – как бедуинский шатер, тонущий в розовом шелке.
Кровать, отделанная слоновой костью и листовым золотом, была музейной редкостью эпохи итальянского Возрождения.
– Мы сможем на ней играть в поло, когда закончится сезон, – заметил Блэйн, впервые увидев это ложе. В спальне Сантэн повесила Тернера[48] – освещенное солнцем золотое море – так, чтобы было видно с кровати. В гостиной она повесила Боннара[49] и осветила комнату люстрами в виде хрустальных перевернутых елок, а в буфете расставила лучшие образцы из своей коллекции серебряной посуды времен королевы Анны и Людовика XIV.