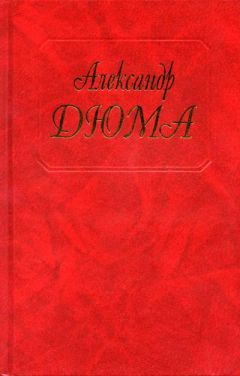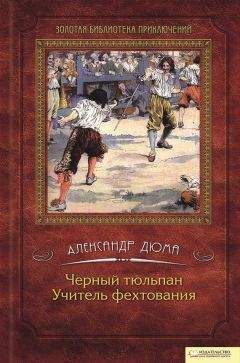— Одно кольцо.
— Разрешите вас обыскать?
— Дьявольщина! — воскликнул Коконнас, краснея от гнева. — Ваше счастье, что я и вы в тюрьме.
— Все допустимо, раз служишь королю.
— Так, значит, — ответил пьемонтец, — те почтенные люди, которые грабят на Новом мосту, служат королю так же, как вы? Дьявольщина! Оказывается, месье, я до сих пор был очень несправедлив, считая их ворами.
— Мое почтение, месье, — сказал Болье. — Тюремщик, заприте господина Коконнаса.
Комендант ушел, взяв у пьемонтца перстень с прекрасным изумрудом, который подарила ему герцогиня Неверская в память о своих глазах.
— К другому, — сказал комендант.
Они миновали одну пустую камеру и открыли еще три двери, шесть замков и девять засовов. Когда последняя дверь отворилась, посетителей встретил только вздох.
Камера была еще унылее той, откуда сейчас вышел комендант. Четыре длинные узкие бойницы с решеткой прорезывали стену, все уменьшаясь изнутри наружу, и слабо освещали это печальное жилище. В довершение всего железные прутья перекрещивались в них так часто, что глаз повсюду натыкался на тусклые линии решетки и узник даже сквозь бойницы не видел неба. Готические нервюры, выходя из каждого угла, постепенно сближались к середине потолка и переходили там в розетку.
Ла Моль сидел в углу и, несмотря на приход посетителей, даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал.
— Добрый вечер, господин де Ла Моль, — сказал Болье.
Молодой человек медленно поднял голову.
— Добрый вечер, месье, — ответил он.
— Я должен вас обыскать, — продолжал комендант.
— Не нужно, — ответил Ла Моль, — я вам отдам все, что у меня есть.
— А что у вас есть?
— Около трехсот экю, вот эти драгоценности и кольца.
Ла Моль вывернул карманы, снял кольца и оторвал со шляпы пряжку.
— Больше ничего нет?
— Ничего, насколько мне известно.
— А что это на шелковой ленточке висит у вас на шее? — спросил Болье.
— Это не драгоценность, это образок.
— Дайте.
— Вы отберете даже это?
— Мне приказано не оставлять вам ничего, кроме одежды, а образок — не одежда.
Ла Моль чуть не набросился на тюремщиков, и гневный порыв человека, отличавшегося своею благородной, тихой скорбью, показался страшным даже этим людям, привыкшим к бурным проявлениям чувств.
Но Ла Моль тотчас взял себя в руки.
— Хорошо, — сказал он, — я сейчас покажу вам эту вещь.
Сделав вид, что поворачивается к свету, он отвернулся, вытащил мнимый образок, представлявший собой не что иное, как медальон, где был вставлен чей-то портрет, вынул портрет из медальона, несколько раз поцеловал, затем как бы нечаянно уронил его на пол и, ударив по нему изо всех сил каблуком, разбил на мельчайшие кусочки.
— Месье!.. — воскликнул комендант.
Он нагнулся и посмотрел, не осталось ли в целости чего-нибудь от неизвестного предмета, который собирался утаить от него Ла Моль, но миниатюра была разбита вдребезги.
— Королю нужна драгоценная оправа, — сказал Ла Моль, — но у него нет никаких прав на портрет, который был в нее вставлен. Вот вам медальон, можете его взять.
— Месье, я пожалуюсь на вас королю.
И, не сказав ни слова на прощанье, комендант вышел в таком раздражении, что оставил тюремщика одного запирать двери.
Тюремщик пошел было к выходу, но, увидав, что Болье сходит с лестницы, вернулся и сказал Ла Молю:
— Как хорошо я сделал, месье, что сразу же предложил вам дать мне сто экю за то, что устрою вам разговор с вашим товарищем, иначе комендант забрал бы их вместе с этими тремястами, а уж тогда бы совесть мне не позволила сделать что-нибудь для вас; но вы заплатили мне вперед, и я вам обещал свидание с вашим другом… Идемте… у честного человека слово крепко. Только по возможности, и ради себя и ради меня, не говорите о политике.
Ла Моль вышел вместе с ним и очутился лицом к лицу с пьемонтцем, ходившим взад и вперед широкими шагами по своей камере.
Они бросились в объятия друг другу.
Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, как бы кто не застал узников вместе, а больше для того, чтобы не попасться самому.
— A-а! Вот и ты наконец! — воскликнул Коконнас. — Этот противный комендант заходил к тебе?
— Как и к тебе, надо думать.
— И отобрал у тебя все?
— Как и у тебя.
— Ну, у меня-то было не много — только перстень Анриетты.
— А наличные деньги?
— Все, что у меня было, я отдал этому доброму тюремщику за то, чтоб он устроил нам свидание.
— Выходит, что он брал обеими руками, — сказал Ла Моль.
— А ты тоже заплатил?
— Я дал ему сто экю.
— Очень хорошо, что наш тюремщик негодяй!
— Конечно, за деньги с ним можно будет делать что угодно, а есть надежда, что в деньгах у нас не будет недостатка.
— Теперь скажи: ты понимаешь, что с нами произошло?
— Вполне… Нас предали.
— И предал этот гнусный герцог Алансонский; недаром мне хотелось свернуть ему шею.
— По-твоему, все так серьезно?
— Боюсь, что да.
— И можно опасаться… пытки?
— Не скрою, что я об этом уже думал.
— Что ты будешь говорить, если дело дойдет до этого?
— А ты?
— Я буду молчать, — ответил Ла Моль, густо краснея.
— Не скажешь ничего?
— Да, если хватит сил.
— Ну, а я, — сказал Коконнас, — если со мной учинят такую подлость, наговорю хорошеньких вещей! Это уж наверняка.
— Каких вещей? — с тревогой спросил Ла Моль.
— О, будь покоен — только таких, от которых герцог Алансонский на некоторое время лишится сна.
Ла Моль хотел ответить, но в это время прибежал тюремщик, вероятно, услыхавший какой-то шум, втолкнул того и другого в их камеры и запер.
Карл уже неделю не вставал с постели, томясь от лихорадочного жара, который перемежался сильными припадками, напоминавшими падучую. Иногда во время таких припадков у него вырывались крики, похожие на вой, пугавшие стражу в передней комнате и гулко разносившиеся по Лувру, уже взволнованному зловещим слухом. Когда припадки проходили, Карл, совершенно разбитый, с угасшим взором, падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось и презрение к людям, и скрытый страх перед роковым концом.
Рассказывать о том, как мать и сын — Екатерина Медичи и герцог Алансонский, — не поверяя друг другу своих чувств, не встречаясь и даже избегая друг друга, каждый в одиночку вынашивал злокозненные мысли, — все равно что описывать омерзительный живой клубок змей.