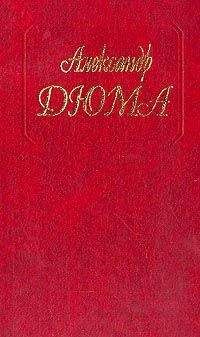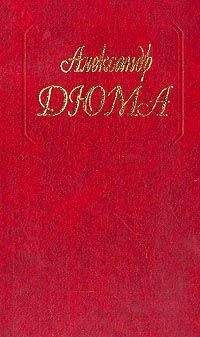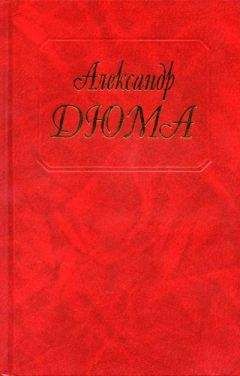— Где вы очнулись?
— В аптеке.
— Сколько времени вы пробыли без сознания?
— Это легко высчитать, монсиньор. Лошадь упала в час или в половине второго ночи, а когда я открыл глаза, уже светало.
— В начале октября светать начинает в пять, в шестом часу, может быть, в шесть; значит, вы пробыли без сознания часа четыре?
— Да, приблизительно так, монсиньор.
— Кто находился около вас, когда вы открыли глаза?
— Господин Ричард, секретарь его превосходительства генерал-капитана Актона, и хирург из Санта Марии.
— Нет ли у вас подозрения, что кто-нибудь брал послание, лежавшее у вас в кармане?
— Когда я очнулся, я первым делом ощупал карман, — послание лежало на месте. Я осмотрел печать и конверт, они, как мне показалось, были в полной сохранности.
— Значит, вы все-таки сомневались?
— Нет, монсиньор. Я действовал бессознательно.
— А потом?
— Потом, монсиньор, после того как хирург из Санта Марии сделал мне перевязку, пока я был в беспамятстве, мне дали бульона, и я уехал и передал послание его величеству. И вы, монсиньор, присутствовали при этом.
— Да, дорогой мой Феррари, и я думаю, что могу положительно подтвердить королю, что во всей этой истории вы вели себя как безупречный, преданный слуга. Вот все, что нам хотелось услышать от вас. Не так ли, государь?
— Да, это все, — кивнул Фердинанд.
— А потому его величество разрешает вам удалиться, друг мой, и отдохнуть, в чем вы, вероятно, весьма нуждаетесь.
— Осмелюсь спросить его величество, уж не провинился ли я в чем-нибудь?
— Наоборот, дорогой мой Феррари, — сказал король, — наоборот, я доверяю тебе теперь больше чем когда-либо.
— Вот все, что мне хотелось узнать, государь, ибо это единственная награда, которую я стремился заслужить.
И он ушел, обрадованный заверением короля.
— Что скажете? — спросил Фердинанд.
— Ну что же, государь… Письмо подменили или переписали, и совершилось это, пока бедняга находился в обмороке.
— Но, мой преосвященнейший, ведь он говорит, что печать и конверт были целы.
— Сделать отпечаток не так уж трудно.
— А подпись императора, значит, подделали? Во всяком случае, это дело рук ловкого фальсификатора.
— Подпись императора не пришлось подделывать.
— Как же в таком случае поступили?
— Заметьте, ваше величество, что я не объясняю вам, как это было сделано.
— Тогда о чем же вы толкуете?
— Я говорю о том, как могли бы это сделать.
— А именно?
— Представьте себе, государь, что раздобыли или заказали печать с изображением головы Марка Аврелия.
— И что же?
— Могли над свечой растопить сургуч, вынуть письмо из конверта, сложить его вот таким образом…
И Руффо сложил бумагу так, как сложил ее Актон.
— А зачем так складывать? — спросил король.
— Чтобы сохранить в неприкосновенности обращение и подпись. Затем какой-либо кислотой смыли текст и вместо него написали то, что мы видим теперь.
— По-вашему, это возможно, преосвященнейший?
— Чего же легче? Скажу даже, — и вы со мною согласитесь, государь, — что это вполне объясняет, как строки, написанные чужой рукой, оказались между обращением и заключительным приветствием, написанным почерком императора.
— Кардинал! Кардинал! — воскликнул король, внимательно рассмотрев письмо. — Удивительный вы человек!
Кардинал поклонился.
— А теперь что же, по-вашему, делать? — спросил король.
— Предоставьте мне подумать до утра, а завтра мы все обсудим, — ответил кардинал.
— Любезный мой Руффо, — сказал Фердинанд, — помните, что если я не назначаю вас первым министром, так только потому, что это не от меня зависит.
— Даже не будучи первым министром, я столь же признателен вашему величеству, как если бы был им.
Он поклонился королю с обычной почтительностью и вышел, оставив его в полном восторге.
LX. ВАННИ ДОСТИГАЕТ НАКОНЕЦ ЦЕЛИ, К КОТОРОЙ ОН ТАК ДОЛГО СТРЕМИЛСЯ
Теперь настала пора вспомнить совет, данный Фердинандом королеве в одном из его писем. Совет заключался в том, чтобы не томить Николино Караччоло в темнице и поторопить маркиза Ванни, фискального прокурора, с расследованием его дела. Наши читатели, надеемся, не ошиблись относительно смысла этого совета и не обнаружили в нем ничего филантропического. Нет! У короля, как и у королевы, были свои причины ненавидеть Николино Караччоло: Фердинанд помнил, как изящный Николино спустился с Позиллипо, чтобы в Неаполитанском заливе приветствовать Латуш-Тревиля и его моряков; как он одним из первых изумил короля, отказавшись от пудры, пожертвовав косичкой ради новых идей и отпустив бакенбарды; как он, наконец, упрямо продолжая идти по дурной дорожке, бесстыдно сменил короткие кюлоты на панталоны.
Кроме того, Николино, как известно, приходился братом красавцу-герцогу де Роккаромана, который, как говорили — справедливо ли, нет ли, — был некоторое время одним из многочисленных мимолетных фаворитов королевы; история, пренебрегая такими мелочами, их не учитывает, зато их отмечает придворная скандальная хроника, только этим и живущая. Между тем у короля не было повода мстить самому герцогу: тот не сменил ни единой пуговицы на своем кафтане, ничего у себя не подстриг, ничего не отрастил и, следовательно, ничем не нарушил строгих правил этикета. Поэтому король не прочь был (ведь как бы ни был добродушен муж, он всегда таит злобу против любовников жены), не имея повода мстить старшему брату, воспользоваться случаем и отомстить младшему. Кроме того, Николино сам по себе был неприятен королю тем, что запятнал себя первородным грехом: мать его была француженка, а сам он не только родился наполовину французом, но и стал уже совсем французом по убеждению.
Впрочем, как мы видели, подозрения короля, весьма смутные и подсознательные в отношении Николино Караччоло, все же не были совсем необоснованными, поскольку Николино участвовал в обширном заговоре, который распространился вплоть до Рима и имел целью, призвав французов в Неаполь, принести сюда свет, прогресс, свободу.
Теперь вспомним, вследствие каких неожиданных обстоятельств пришлось Николино Караччоло уступить Сальвато, промокшему в морской воде, свое платье и оружие; вспомним, что Паскуале Де Симоне нашел в кармане сюртука Николино забытое им письмо женщины, которое Паскуале передал королеве, а королева — Актону. Мы почти воочию наблюдали химический опыт, когда была смыта кровь, а строки письма остались в целости, в полном же смысле слова присутствовали мы при поэтическом опыте, который, выявив женщину, дал возможность узнать и ее возлюбленного. А возлюбленный, как читатель помнит, был схвачен и отведен в замок Сант'Эльмо и оказался не кем иным, как нашим беззаботным и отважным другом Николино Караччоло.