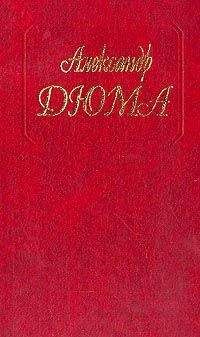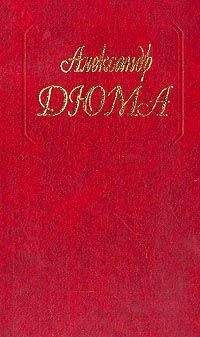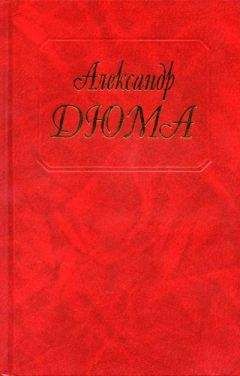Да простятся нам эти повторения: даже если они излишни, мы хотим по возможности внести ясность в наше повествование: оно, может быть, чрезмерно усложнено из-за большого числа персонажей, выведенных нами на сцену, причем часть из них бывает вынуждена исчезать из поля зрения читателя на протяжении нескольких глав, а иной раз и целого тома, чтобы уступить место другим лицам.
Пусть же нас не корят за это отступление, приняв во внимание наши благие намерения, и не делают из них один из камней, которыми вымощен ад.
Замок Сант'Эльмо, куда заключили Николино, был, как уже известно читателю, неаполитанской Бастилией. Этой тюрьме, сыгравшей большую роль во всех неаполитанских революциях, принадлежит важное место и в нашем повествовании. Стоит она на вершине холма, высящегося над древней Партенопеей. Мы не станем доискиваться, как наш ученый археолог сэр Уильям Гамильтон, происходит ли Эрм — первоначальное название замка Сант'Эльмо — от древнего финикийского слова «erme», что означает «возвышенный», «высокий», или же имя было дано замку в связи с изваяниями Приапа, которыми жители Никополи-са обозначали границы своих земельных участков и домов, называя эти изваяния Терминами. Небо не наделило нас зорким оком, которому дано проникать во тьму этимологии, а потому ограничимся тем, что свяжем это название с часовней святого Эразма, которая в свою очередь дала наименование холму, где она стояла; итак, холм встарь носил имя этого святого, со временем его стали ошибочно называть холмом святого Эрма и, наконец, все более искажая первоначальное название, — холмом святого Эльма.
На этом холме, возвышающемся над городом и морем, сначала возвели башню; она заменила часовню и стала называться Бельфорте; при Карле II Анжуйском, по прозвищу «Хромой», башня была перестроена в замок; его значительно укрепили, когда Неаполь был осажден Лотреком, но не в 1518 году, как утверждает синьор Джузеппе Галанти, автор «Неаполя и его окрестностей», а в 1528 году: именно тогда по распоряжению Карла V замок стал крепостью в полном смысле слова. Как и все крепости, первоначально предназначенные для обороны поселения, среди которого или над которым они высятся, замок Сант'Эльмо постепенно не только перестал защищать народ, а превратился в цитадель угнетения. Вот почему мрачная крепость до сих пор пугает неаполитанцев, и при любой революции, которую они совершают или позволяют совершить, они просят новое правительство разрушить ее. Новое правительство, заботясь о своей популярности, издает декрет о сносе замка, однако остерегается его разрушить. Поспешим заметить, ибо надо быть справедливыми не только к людям, но и к камням, что почтенный и миролюбивый замок Сант'Эльмо, вечная угроза для города, всегда оставался лишь угрозой, никогда от него не было вреда, а при некоторых обстоятельствах он был даже полезен для обороны.
Мы сейчас заметили, что к камням надо быть справедливыми, так же как к людям; взглянем же на эту истину с другой стороны и скажем теперь, что к людям надо быть такими же справедливыми, как и к камням.
Не по лености или по нерадению, но, слава Богу, маркиз Ванни медлил с делом Николино. Нет, маркиз, истинный фискальный прокурор, только тем и занимался, что выискивал преступников, он вечно мечтал обнаружить их даже там, где их не было, поэтому он не заслужил подобного упрека. Но маркиз был в своем роде человеком совестливым: он семь лет тянул дело князя Тарсиа, и три года возился с делом кавалера Медичи и тех, кого он упорно называл его сообщниками. На этот раз преступник был у него в руках, маркиз располагал доказательствами его вины, он был уверен, что узник не ускользнет из камеры, запертой на три засова, и не преодолеет тройную стену, опоясывающую замок Сант'Эльмо. Поэтому он думал добиться желаемого результата не за один день, не за одну неделю и даже не за месяц. К тому же, как мы уже говорили, по своим инстинктам, по манере действовать он был из кошачьей породы, а ведь известно, что тигр любит поиграть с человеком, прежде чем разорвать его на куски, а кошка — позабавиться с мышью, перед тем как ее съесть.
И маркиз Ванни забавлялся игрой с Николино, прежде чем снести ему голову.
Но надо сказать, что в смертоносной игре, где один из противников выступает во всеоружии закона, пытки и виселицы, а другой защищен только собственным умом, не всегда выигрывает тот, на чьей стороне все преимущества. Отнюдь нет. После четырех допросов, каждый из которых длился по два часа, как ни донимал Ванни подсудимого, он ни на шаг не продвинулся вперед, а преступник оставался таким же неуязвимым, как в первый день, — следователю удалось выведать лишь его имя, фамилию, звание, возраст, общественное положение — иными словами, то, что было известно каждому неаполитанцу и ради чего не было надобности держать человека месяц в тюрьме и три недели вести следствие. При всем своем любопытстве — а маркиз Ванни, несомненно, был одним из самых настойчивых судей Королевства обеих Сицилии, — он так и не сумел узнать что-нибудь существенное.
Что до Николино Караччоло, то он взял на вооружение следующую дилемму: «Я виновен или невиновен. Если виновен, я не так глуп, чтобы опускаться до признаний, что изобличат меня; если невиновен, значит, мне не в чем сознаваться, и я ни в чем не сознаюсь». Плодом такой системы защиты явилось то, что на все вопросы Ванни, старавшегося получить какие-либо сведения помимо тех, что были известны всем, то есть кроме имени, фамилии, звания, возраста, места жительства и положения, Николино Караччоло отвечал встречными вопросами, спрашивая у прокурора с видом живейшего участия, женат ли он, хороша ли собою его жена, любит ли он ее, есть ли у них дети, сколько малюткам лет, есть ли у него братья, сестры, жив ли его отец, в добром ли здравии его матушка, сколько ему платит королева за его ремесло, перейдет ли титул маркиза к его старшему сыну, верит ли он в Бога, верит ли в ад, в рай; причем он расспрашивал Ванни с такою же явной симпатией, как тот расспрашивал его, и это позволяло ему если не повторять точно такие же вопросы — до подобной нескромности он не доходил, — то, по крайней мере, задавать вопросы аналогичные. Поэтому после каждого допроса прокурор чувствовал, что ничуть не продвинулся вперед; он даже не решался приказать писарю занести в протокол весь вздор, сказанный ему Николино. Кончилось тем, что во время последнего допроса он пригрозил арестованному прибегнуть к пытке, если тот не перестанет издеваться над почтенным божеством, что именуется Правосудием. Утром 9 декабря, несколько часов спустя после возвращения короля в Казерту — возвращения, о котором в Неаполе еще никто не знал, кроме людей, имевших честь лично видеть его величество, — Ванни явился в замок Сант'Эльмо с твердым решением, если Николино будет по-прежнему играть с ним, привести свою угрозу в исполнение и попробовать пресловутую пытку sicut in cadaver 86; хотя, к великому его сожалению, Государственная джунта большинством голосов не разрешила ему пускать это средство в ход, в данном случае он мог обойтись без ее позволения.