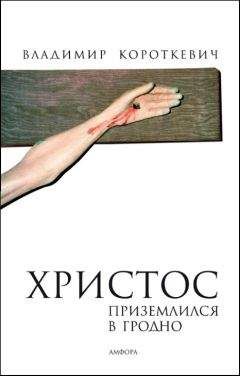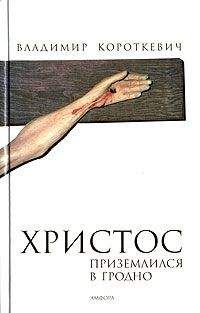И как только загудели колокола, весь город (и в одно мгновение) поднялся. Видать, договорились загодя, что выступят с началом анафемы. В мгновение ока высыпали из дворов вооружённые чем попало люди, хватали отдельных стражников, текли переулками, сливались.
Город валил к Старому рынку. Громить хлебные склады. Пусть даже там мало чего есть – потом можно пойти на склады замковые. Невозможно больше терпеть.
Над городом стоял такой крик, что его услышали даже лицедеи за стенами. Они как раз переодевались в грубый холст и перепоясывались вервием, когда город начал рычать.
– Что это там? – с тревогой спросил тонкий Ладысь.
Юрась возлагал на голову терновый, с тупыми шипами, венец:
– А чёрт его знает! Город… Видать, ничего страшного. Глянь: стража даже ворота не закрывает.
– Что делать будем? – спросил Жернокрут.
Братчик спокойно вскинул себе на плечи большой лёгкий крест. Поправил его.
– Идём.
И спокойно пошёл к воротам.
Двенадцать человек в дерюге тронулись за ним. Следом потянулся продранный, дребезжащий фургон.
Город кричал страшно. То, что в замке до сих пор не подняли тревогу, можно было объяснить только гулом замковых колоколов. Церкви были близко. Улицы ремесленников – в отдалении. Замок молчал, но крик и рёв приближались к нему.
Людей было мало – пожалуй, один из пяти-десяти вышел на улицы, – но они так заходились в крике, что им казалось: нет силы, способной встать им поперёк дороги.
Низколобый сотник Корнила первым увидел с угловой башни далёкую толпу и, хоть и был тугодум, сразу понял, чем это пахнет.
Пыль стояла уже над Старым рынком: видимо, купцы обороняли площадь от ремесленников… Нет, ремесленники с мещанами ещё далеко. Очевидно, грабят по дороге чьи-то дома… Откуда же пыль над рынком?
И сотник понял: торговцы бегут за оружием… Готовятся… Будет страшная драка. Надо разнимать. Как? Послать за Лотром? Чёрта с два его послушают. Что такое кардинал в православном по преимуществу городе?
Корнила ринулся с забрала и припустил. Счастье, что Болванович здесь, а не в излюбленном Борисоглебском монастыре.
Болванович только что сытно, с мёдом, позавтракал и завалился почивать. Пусть они там хоть удавятся со своей анафемой. Всюду бывать – скорей сдохнешь.
Замковые митрополичьи палаты были двухъярусными с подземельями, в десять покоев с часовенкой. Стояли чуть поодаль от дворца Витовта. Светлицы в них были сводчатыми, низкими, душными, но зато тёплыми зимой, не то что замковый дворец. Там, сколько ни топи, стынь собачья.
Из-за жары маленькие окна открыли. Видно было, как вьются над башнями испуганные перезвоном стрижи.
Болванович лежал и сопел. На его животе развалилась крупная, очень дорогая заморская кошка. Привозили таких откуда-то аж из-за Индии португальцы. Продавали у себя, в Испании, в Риме. Кошка была загадочно-суровой, с изумрудными глазами, с бархатным коричнево-золотым мехом[52]. Тянулась к лицу пастыря, словно целовала, а потом воротила морду: от митрополита пахло вином.
– Ну и выпил, – говорил Болванович. – Времена такие, что запьёшь. Может, и ты хочешь? Так я…
Рядом с ложем стоял только что распечатанный глечик с мёдом и блюдце клубники со сливками. Гринь выпивал чарку, макал палец в сливки и мазал кошке нос. Та облизывалась. Сначала – недовольно, потом – словно ласкаясь.
– Не пьёшь? Как Папа? Врёшь, и он пьёт. Должна знать, если тебя на корабле в Папской области купили… У-у, шельма, у-у, лахудра, шпионка ты моя папская. Чего морду воротишь? Не нравится? А мне, думаешь, нравится, что лазутчики вокруг? Самого верного дьякона посадили. А город больше чем на три четверти православный. Вот пускай сами в нём и управляются, а я себя под домашний арест посажу. Мне и тут неплохо. И выпью себе, и закушу. Тишина вокруг, звон… И хорошо.
Он и ухом не повёл, когда услышал грохот. Кто-то бежал переходами, топал по лестницам, как жеребец. Затем двери с гулом растворились и, будто кто бросил к ложу самовар, влетел в покой и упал ничком Корнила.
– Благослови, святой отче.
– Это ты за благословением так бежал, прихвостень?
– Ну.
– Врёшь ты.
– Святой отче…
– Изыди, рука Ватикана.
– Православный я, отче…
– Неважно. Таких повсюду жгут. Четвёртый ты Сикст…
Корнила обиделся:
– Я уж и не знаю, на что это вы намекаете.
– Инквизитор ты… Фараон… Савл.
– Ругайтесь себе, ругайтесь. Бросайте хульные слова. А в городе мещане бунтуют. Повалили с кольями, с дубинами на Старый рынок.
– Пускай валят. – Митрополит поворотился к Корниле задом. – Дурень ты богомерзкий.
Кошка вскарабкалась передними лапами на бок Гриню и смотрела на Корнилу, словно дьявол из-за врат ада.
– Купечество им навстречу бросилось. С мечами.
– Пускай даже и так.
– Кровь прольётся.
– А Небесный Наш Отец не проливал крови?
– Так разнимать надо, – почти стонал Корнила. – С хоругвями идти.
– Вот пускай Лотр с Босяцким берут своих идолов сатанинских, да Комара берут, и идут. А я погляжу.
– Православные дерутся!
– Неважно… идолопоклонник ты. Пускай дерутся. Как разнимать – так я, а церкви у нас разные там Богуши отнимают да им отдают.
– Лотр передаёт: вернут православную Нижнюю церковь.
– Пук ты… Редька обшарпанная, вонючая… Какую Нижнюю? Ту руину, что в замке? Пусть он сам там служит, раком в алтарь заползает да голой спиною престол от дождя закрывает… филистимлянин. Там стены над землёй ему до задницы… немец он, желтопузик этакий.
– Да не ту Нижнюю… Ту, что на Подоле, под Болоньей.
– И трёхкупольную Анны, – деловито сказал Гринь.
– Побойтесь Бога!
– И ещё бывшее Спасоиконопреображение, что на Гродничанке, деревянную… Довеском.
– Ладно, – мрачно буркнул сотник. – Только быстрей. Мещане к складам рвутся. Кардинал со своими уже пошёл.
Гринь Болванович внезапно взвился так, что кошка, словно подброшенная, покатилась на пол.
– К скла-а-дам?! Что ж ты раньше не сказал?! Дубина ты стоеросовая… Долгопят ты! Стригольник, [53] православием проклятый!.. Шатный![54] Одеяния! Ах, чтоб им Второго пришествия не дождаться!
Всё ещё звучала анафема и ревели волосатые и безволосые зевы, а «Второе пришествие» подходило к воротам города. Входило в них.
И впереди шёл в наклеенной бороде и усах единственный хоть немного приличный человек изо всей этой компании. Шёл и нёс на плечах огромный крест. Шли за ним ещё двенадцать, все в холстине, и на лицах у них было что угодно, только не святость. Отпечатались на этих лицах голодные и холодные ночи под дождём и другие ночи, у огня в корчме и в компании за кувшином вина. Жизнь, кое-как поддерживаемая обманом… Шёл, если разобраться, самый настоящий сброд: любители выпить, подъесть, переночевать на чужом сеновале, когда хозяина нет дома. Шли комедианты, жулики, плуты, лоботрясы, чревоугодники, проказники, насмешники. На их лицах были постные, благопристойные, набожные мины – и это было неуместно и смешно.