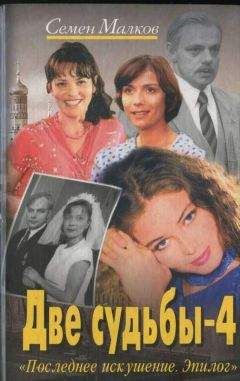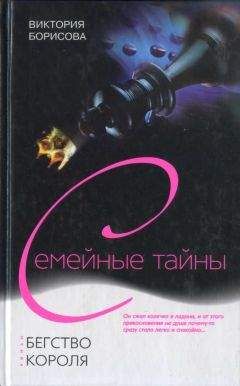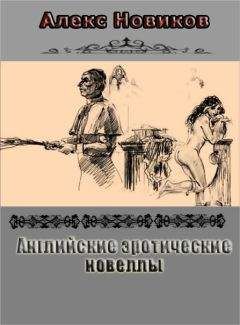— Пани-матко! вчера дело пошло было на лад, но по твоей милости все развязалось, и не знаю, свяжется ли когда-нибудь. Не по правде вы делаете, не во гнев вам будь сказано. Я к вам с искренним сердцем, а вы с хитростью. Скажи мне наотрез, так чтоб и спрашивать больше было не о чем, что у тебя на уме? думаешь ли ты отдать за меня Лесю, или у тебя есть другой жених на примете.
— И есть и нет, и нет и есть, отвечала Череваниха, не обращая внимания на волнение, с которым говорил бедный искатель.
— Что это за загадки? вскричал он. Говори мне прямо, как казаку и рыцарю! Хоть я и так готов распрощаться с вами навеки, но не знаю, почему желал бы, чтобы и последняя нитка между нами была перерезана. Еще я могу быть свободен, как сокол, если вы мне скажете наотрез — нет; но пока будете путать меня своими загадками, я все равно, что медведь в тенетах. Скажите ж мне прямо, скажите, кто у вас на мыслях?
— Э, паниченьку! сказала беспечно Череваниха, обожди немножко! Еще рано тебе брать нас на исповедь!
Может быть, никогда в жизни не случалось Петру бледнеть, но теперь щеки его сделались подобны воску. Леся это заметила, и, взглянув на мать, покачала головою.
Улыбнулась гордая мать, и, как бы желая несколько утешить казака, сказала с шутливою короткостью:
— Но, как ты непременно хочешь знать все женские тайны, то вот тебе история. Леся моя родилась под чудною планетою. Приснился мне сон дивный, предивный. Слушай, Петрусь, да на ус мотай. Кажется, будто посреди поля курган; на кургане стоит панна, а от панны сияет, как от солнца. И съезжалися казаки и славные рыцари со всего света, от Подолья, от Волыни, от Севера и от Запорожья; покрыли, кажется, все поле, как мак покрывает грядку в огороде, и стали биться один на один, кому достанется ясная панна. Бились не час, не годниу, не день и не два, как откуда ни возьмись молодой гетман на коне. Все преклонились перед ним, а он прямо к кургану, и взял ясную панну. Такой, видишь, был мне сон-видение! Проходит день, другой — не могу забыть его! Ударилась я к ворожке. Что же ворожка, как ты думаешь?
— Я думаю только, отвечал Петро, что ты, пани-матко, меня морочишь, вот и все!
— Нет, не морочу, казаче. Слушай, да на ус мотай, что сказала ворожка. «Этот сон пророчит тебе дочку и зятя. Дочка у тебя будет на весь свет красою, а зять на весь свет славою. Будут съезжаться в город Киев со всего света паны и гетманы, будут дивоваться красе твоей дони, будут дарить ей сребро-золото, но никто не сделает ей подарка дороже того, который сделает суженый. Суженый будет ясен красою между всеми панами и гетманами: вместо глаз звезды, на лбу солнце, на затылке месяц.» И вот в самом деле дал мне Бог дочку — сбылись слова старой бабуси: как бы только не сглазить? Сам видишь — не последняя между девушками. Немного погодя, зашумело на Украйне, и стали съезжаться в Киев паны и гетманы — сбылись и другие слова ворожки: все дивовались на мою Лесю, хоть она была тогда еще дитя; все дарили ей серьги, перстни и кораллы, но никто так ею не восхищался, как тот гетман, которого я видела во сне; и он-то подарил ей это каменное намисто. Дороже всех был его подарок, и краше всех был молодой гетман. Вместо глаз звезды, на лбу солнце, на затылке месяц — еще раз сбылись слова ворожки. Всех панов и гетманов затемнял он красотою. И говорит мне: «Не отдавай, пани-матко, своей дочки ни за богатого, ни за знатного, не буду жениться, пока вырастет, и буду ей верною дружиною.» Дай же, Боже, чтоб и это сбылось на счастье и на здоровье.
В это время богомольцы наши достигли гор, которые идут рядом диких картин от Кирилловского монастыря до Подола, и перед ними открылся во всей красе вид Киева с своими церквами и монастырями, с замком на горе Киселевке, с деревянными стенами и башнями, обнимавшими вокруг Подол, и с дальним планом гор, покрытых лесом, посреди которого тогда стояли Никольский и Печерский монастыри, ныне окруженные расширившимся Киевом. Солнце еще только что выкатилось из-за деревьев, и все в его розовом сиянии — сады, церкви, горы киевские и дома горели, как золототканная парча.
Все сотворили усердную молитву, кроме Петра, которого странный рассказ Череванихи огорчил до глубины души и утвердил его в горестной догадке. Он бросил рыдван и присоединился к верховым.
Всі покою щиро прагнуть,
Да не в один гуж всі тягнуть, —
Той направо, той наліво,
А все братья — то-то диво!
Эй, братиша, пора знати,
Що не всім нам пановати!
...................................
Сжалься, Боже Украіны,
Що не вкупі мае сыны!
Старинная песня.
Весело и грустно вспоминать нам тебя, старый наш дедушка Киев! Много раз покрывала тебя великая слава, а еще чаще сбирались над тобой со всех сторон бедствия. Сколько князей, сколько рыцарей и гетманов, сражаясь за тебя, обессмертили имена свои! и сколько пролито на твоих древних стогнах крови христианской! Не будем вспоминать о твоих Олегах, Святославах, Владимирах; не будем пересчитывать половецких набегов и опустошений. Ту славу и те бедствия заглушил в нашем народе татарский погром, когда безбожный Батый вломился в твои Золотые Ворота. Переполняют нашу душу горячими чувствами и недавние твои воспоминания — воспоминания о битвах за свободу нашей Церкви и национальности. Много наделала тебе бед, наш родной Киев, безумная уния! Она, вместо соединения церквей, воспламенила только страсти с обеих сторон и превратила святую ревность к вере в жестокий фанатизм. Униаты и католики обыкновенно наезжали с вооруженными людьми на монастыри и монастырские владения, выгоняли из них православных, грабили церковное имущество, уничтожали духовные школы. Православные, в свою очередь, пользовались счастливыми обстоятельствами для возвращения подобным же способом своей собственности. Все время проходило в битвах и тревогах, и киевские святыни, потерпевшие в старые годы от татар, не только не восстановлялись, а приходили еще в больший упадок.
Монах Киевопечерского монастыря, Афанасий Кальнофойский, описывая в своей «Тератургиме» [44] тогдашний Киев, и упоминая о многих древних церквах, в одном месте говорит, что от такой-то церкви «остались едва стены, а развалины покрыты землею», в другом — что церковные здания лежат под буграми развалин и кажутся «погребенными навеки»; наконец, дошедший до конца старокиевской возвышенности, бросает грустный взгляд на Киевоподол, называя его «жалостным», и говорит, что он едва ли достоин имени Киева, «в котором, по его словам, некогда было церквей более 300 каменных, 100 деревянных, а ныне всех едва ли 13».