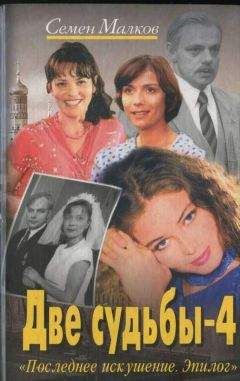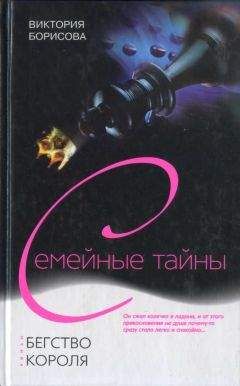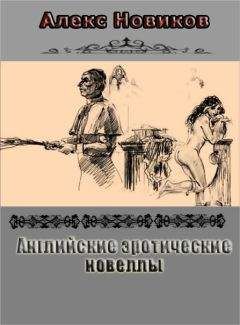— Чёрт возьми! вскричало еще несколько голосов, потому что пьяная чернь вспыхивает как порох от одной искры, — так мы тогда только компания кармазинам, когда нужно их выручать из лядского ярма?
— Хе! сказал хозяин. — Если так, то чего-ж нам возле них панькать?
— К чёрту всех кармазинов! раздались буйные голоса. Они только умеют побрякивать саблями. А где они были, эти проклятые брязкуны, как проклятый Радзивил загремел из пушек в городские ворота?
Закипело у Шрама сердце, когда услышал он такие речи.
— А вы ж, проклятые салогубы, вскричал он, где были в то время, когда ляхи обгорнули нас, как жаром горшок, под Берестечком? где вы тогда были, как припекли нас со всех сторон — что мало не половина войска выкипела? где вы тогда были? Вы тогда звенели талярами да дукатами, что набрали от казаков за гнилые подошвы и дырявые сукна! А Радзивил пришел, так вы и разу не ответили ему из пушки! Подлые трусы! вы добровольно отдали Радзивилу оружие и, как бессильные бабы, просили пощады у литвинов! А когда Киев запылал, и литвины принялись душить вас, как овец, в то время кто подоспел к вам на помощь, если не казаки? Бедный Джеджелий с горстью своих серомах влетел в Киев, как голубь в свое гнездо за коршуном. А вы поддержали его, подлые зайцы? Дурень был покойник! если бы я, я не литвинов бы рубил, а вас, бесовы дети! я научил бы вас защищать то, что отвоевали вам казаки!
— Какой дьявол отвоевывал нам наше добро, кроме нас самих? кричали мещане. Отвоевали казаки! да кто ж были те казаки, коли не мы сами? Это теперь, по милости вашей, мы не носим ни сабель, ни кармазину. Казачество вы для себя припрятали, а мы изволь строить своим коштом стены, палисады, башни, платить чинш и чёрт знает еще что! А почему бы нам, так же как и казакам, не привязать к боку саблю, и не сидеть, сложа руки?
— Казаки сидят, сложа руки? возразил Шрам. Щоб вы так по правді дыхали! Коли б не мы, то давно б вас чёрт побрал! давно б вас ляхи с недоляшками задушили, или татаре перехватали! Неблогодарные твари! Да только казацкою храбростью и держится русский народ на Украине! а без них тут бы сидел лях на ляху! Изволь им дать права казацкие! Сказали б вы это батьку Хмельницкому! он бы как раз потрощил на ваших безмозглых головах булаву свою [48]! Где это видано, чтоб весь народ имел одинаковые права? Всякому свое: казакам сабля и конь, вам счеты и весы, а поспольству плуг да борона.
— Коли всякому свое, пане Шраме, сказал Тарас Сурмач, размахивая сулеею и обливая себя вишневкою, — коли всякому свое, то почему ж нам саблю и казацкую вольность не считать своими? У казаков не было войска — мы сели на коней и стали под их корогвами [49]; у казаков не было денег — мы доставили им и деньги и оружие; вместе воевали поляков, вместе терпели всякие невзгоды. А когда пришлось к рассчету, то казаки остались казаками, а нас в поспольство повернули! Что ж мы такое? разве мы не те же казаки?
— Разве мы не те же казаки? подхватили гости, заложа гордо за пояса руки. Кто жил прежде с нами за панибрата, тот теперь гордует нашею компаниею!
Шрам несколько раз начинал говорить, но поток общего негодования был так стремителен, что уносил его слова недоконченными.
— Постойте, постойте, паны кармазины! заревел, как бы в заключение этого нестройного концерта, грубый голос толстого мещанина, — мы вам поуменьшим гордости! Не долго вам орудовать нами: добрые молодцы не дадут нам загинуть. Будет у нас черная рада: тогда посмотрим, кому какие права достанутся.
— Ого!.. сказал Шрам: — вон оно к чему дело клонится!
— А то ж як? говорили, стоя козырем, мещане. Не все только казакам на радах орудовать. Оглянулись и на нас сечевые братчики...
И посмотрели на чубатого запорожца, который сидел на пороге, куря коротенькую люльку, и по-видимому, не обращал никакого внимания на спор своих собутыльников.
— Эге-ге! так вот откуда ветер дует! сказал в пол-голоса Шрам, и душа его наполнилась самыми горькими предчувствиями. Запальчивость его в одно мгновение исчезла и уступила место горячей любви к родине, которой угрожал раздор народных партий, раздуваемый, как он увидел, запорожцами.
— Почтенная громада! сказал он ласково, не думал я и в уме не полагал, чтоб киевляне пошановали этак мою старость!.. Давно ли мы въезжали сюда с батьком Хмельницким? тогда встречали нас с радостными слезами и с благословениями; а теперь старого Шрама вы ни во что уже ставите!
— Батько ты наш любезный! отвечал ему старый Сурмач, который живее всех был тронут таким оборотом речи, — кто ж тебя ни во что ставит? Разве это к тебе говорится? Есть такие, что душат нас, взявши за шею, а ты никому никакого зла не сделал. Не смотри на их крик: мало чого не бувае, що пьяный співае! Поезжай себе с Богом, поклонись церквам божиим, да и за нас грешных прочитай святую молитву.
В это время Черевань, соскучась долго ждать развязки спора, подъехал к Шраму и окружающим его мещанам, и сказал:
— Бгатцы! ка-знае за що вы сердитесь! Обождите только, пока мы съездим к церквам божиим, а потом я готов с вами сесть от тут, и не знаю, кто в Киеве, кроме вашего войта, перепьет Череваня.
Мещане уже взяли свое, облегчили криком сердце; а Черевань притом пользовался особенным расположением киевлян. Был он человек подельчивый, некичливый, любил употчевать всякого, кто ни показывался в его хуторе, а иногда готов был и на такие пожертвования, какое сделал для Василя Невольника. И потому буйная компания Тараса Сурмача приняла с ним самый дружелюбный тон.
— Вот пан, так пан! кричали голоса. Дай Бог и по век видеть таких панов! нет в нем ни капли гордости!
— За то ж ему Бог дал и такую золотую пани, говорили некоторые, стараясь замазать прежние грубые выходки против кармазинов.
— За то ж ему Бог дал и такую дочку: краше маку в огороде! прибавляли другие.
— Ну, пропустите ж нас, когда так, сказал нетерпеливый Шрам.
— Пропустите, пропустите ясных панов, говорил Тарас Сурмач, и принялся первый отодвигать прочь возы.
Пробравшись сквозь подгулявшую толпу мещан, Шрам долго ехал, потупя голову. Неожиданная сцена сильно его опечалила. Наконец он облегчил глубоким вздохом грудь и сказал в пол-голоса:
— Вскую прискорбна еси, душе моя, и вскую смущаеши мя? уповай на Господа... Потом вздохнул еще раз и продолжал утешать себя словами Царя-пророка: — Бог нам прибежище и сила... сего ради не убоимся, внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская.
Черевань, едучи подле Шрама, прислушался к этим словам, и, заключа по ним, что душа его приятеля сильно возмущена, в добродушии своем, почел за благо прибавить от себя несколько утешительных слов.