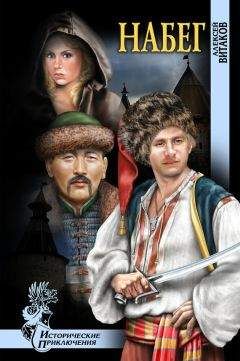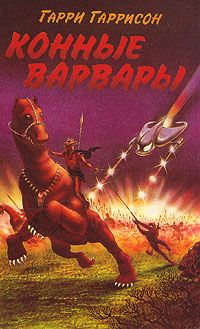— Топоры нужны. Где бревно срубить, а где и татарску голову. В лесу топор сподручнее сабельки-то будет.
— Топоров дам сколь угодно. Мы из Излегощ привезли, да у Терентия все дворы хорошо отопорны. Где по три, где по пять.
— Хорошо мужики у Терентия живут.
— А наши хуже? — Кобелев приподнял бровь.
— Да ну и наши не хуже. У наших и скота поболе.
— Ладно. Давай прощаться, Пахом. Авось свидимся, так обнимемся.
— И на том свете тоже, Тимофей Степанович, обняться в радость большую будет.
Старый Пахом наклонился над Кобелевым и крепко поцеловал. Окликнул караульного казака, велел тому принести атаману бурку и седло под голову. Затем пошел по крепости будить спящих казаков. Будил осторожно, чтобы не прервать сон остальных. Набирая в свою дружину только славно поживших воинов. Тех, кому перевалило за пятьдесят. Проходя мимо Лагуты, перекрестил спящего и украдкой смахнул слезу со своей щеки. Вряд ли удастся свидеться на этом свете. Серьга в левом ухе Лагуты, словно в ответ, тускло блеснула в лунном свете. Не прошло и часа, а Пахом уже стоял перед казачьей шеренгой, деловито оглядывая каждого, поправляя снаряжение и объясняя вкратце суть их боевой задачи. Казаки понимающе кивали, приосанивались, когда Пахом хлопал по плечу.
— Вот что, ребята! Я теперь ваш начальник, отец и мать родная, все вместе. Пойдем бродом, прямо здесь, за крепостью. Река здесь мелкая, сидя на коне, ног не замочишь. Потому Джанибек и выбрал через Песковатое путь свой окаянный. А в другом месте буде поглубже. Может и вплавь придется. Вода холодная. Но казак в бою тело свое согревает! Аль не так?
— Так! — дружно отвечали казаки.
— Ну а коли так, значит и погуляем знатно!
— Любо! — отвечал стройный хор.
— А тогда и по коням! Че тут время терять! Да и не нам на баб зариться. Пусть молодежь им теперича песни поет да сказки сказывает. Садись по двое на коня. Выходим за ворота тихо и сразу по правую руку держим. Огибаем угол стены и к реке. Всем все ясно? И-ях!
Пахом по-молодецки взлетел в седло. Кто-то тут же оказался позади и крепко вцепился в плечи.
Форсировав реку, небольшой отряд пошел берегом, чередуя шаг с рысью. Ночь выдалась ясная и звездная, поэтому идти было легко. Ветер совсем успокоился, а значит, не мог доносить до татарского стана глухой стук копыт. Где-то через десять верст, снова перешли реку. Но уже без лошадей. На этот раз хорошо вымокли. Пахом, прикинув время, разрешил развести костерок. Запалив несколько факелов, казаки стали рубить деревья. Валить в том направлении, куда указывал старый казак. Дюжина людей плохо понимала, находясь в темном лесу, что происходит. И лишь беспрекословно выполняла приказы.
— Вот и ладно. Вот и молодцы, ребята! — Пахом хлопнул кого-то по плечу, даже не разглядев в потемках человека. — Перегода и с ним еще пять остаются здесь. Остальные давай за мной.
— А лошадей? — Перегода спросил, сам не зная почему.
— Лошади сами дорогу к дому найдут, — ответил кто-то из казаков.
Пахом с другой половиной отряда продвинулся вперед еще на полсотни шагов. По пути обильно поливая смолой землю. И снова стали рубить, заваливая узкий проход в засечном лабиринте.
— Дядь, а из пищали дашь попробовать?
Пахом вздрогнул. Это был голос Лагуты.
— А ты-то как здесь?! А ну, марш обратно!
— Да куды ж я обратно. Я и дороги не найду. Не, дядь, сам же говоришь: Бог не выдаст, свинья не съест!
— Как только рассветет, пойдешь обратно в крепость. Понял меня?
— Из пищали дашь пальнуть?
— Почему я тебя не видел, дурака такого, когда в крепости еще людей строил.
— Так я же шустрый. Сам нас с Инышкой учил. Да просто все. Пока Сипко Кузьма Петрович примеривался к тебе на круп запрыгнуть, я его, того, толкнул маленько и сам вскочил. А кричать-то нельзя. Вот и остался дед Кузьма с раскрытым ртом стоять. А ты ведь последним из крепости выезжал. Никто боле и не увидел. Да ежели бы и не последним, я бы всё равно чего-нибудь измыслил. Ну, ты прости мя, дядь Пахом, а!
— Ладно. Оставайся. Но сидеть, головы не высовывать. Мне за тебя теперь ответ держать перед Тимофеем Степановичем.
— А с пищали-то?
— Утихни! Сказал. Ухо вырву и псам отдам.
Лагута замолчал, ибо знал, что тяжела рука у старого казака. Влепит затрещину, так два дня в ушах звенеть будет.
— Ты Кузьму Петровича-то не шибко повредил? Честно говори.
— Да не. Я на него шкуру телячью накинул, а потом полешком несильно. Да жив-здоров уже, поди.
— Вот семя бесово! А ну приготовиться, казачки. Факелы туши.
Кобелев не ошибся. Завидев, что татары на конях-тяжеловозах выдвинулись из своего лагеря, он сразу понял: пойдут самым коротким путем, а значит, через лес. Только такие кони с большого расстояния могут перевезти сразу двух всадников, да еще с тяжелыми мушкетами, при этом проламывая своей мощной грудью скрещенные ветви деревьев, не ломая ног о корни и сучья, дробя копытами поваленные стволы.
Ночь была настолько тиха, что стук копыт и конский всхрап казаки услышали задолго до приближения вражеского отряда. Затем речь. Переговаривались турки. Шутили и негромко смеялись.
— Эх, что ж ты ночка так коротка! — Пахом пробубнил себе под нос и поднял руку.
— Да, дядь, уже светать скоро начнет. — Лагута прижался плотнее боком к старому казаку.
— Да вижу. Вона. Впереди с факелом идет. Проводник, сука.
— Так то, кажись, Синезуб. Он от Ливны к нам с коробом ходит.
— Этот хорошо засеки знает. Ну, счас ему Перегода да по синим зубам.
Казаки вжались кто в землю, кто в стволы деревьев, пропуская всадников мимо себя.
Проходы были настолько узкими, что через них могла пройти только одна лошадь. План Пахома был прост. Он поделил своих людей на два отряда. Там, где остался Перегода, проход завалили. Другой проход в пятидесяти шагах сделали настолько узким, что конь, проходя, обдирал бы бока. Расстояние между двумя отрядами залили смолой. Получалась ловушка, в которой могло оказаться до тридцати вражеских всадников. Остальных можно просто отсечь. А как? Старый Пахом хорошо знал.
* * *
Синезуб шел, держа факел перед собой на вытянутой руке, освещая дорогу. Лицо его было хорошо видно в свете пляшущего пламени. Каждая черточка, морщина, изгиб и линия. О, сколько ненависти было у казаков к этому лицу. Перегода положил на тетиву стрелу с граненым наконечником.
Когда оставалось не более пятнадцати шагов, тетива отрывисто щелкнула. Короткий свист. Стрела, пройдя над огнем факела, вонзилась точно между бровей. Снаряд, выпущенный умелой рукой, сокрушил на своем пути лобную кость и навеки погасил мозг предателя. Синезуб не успел даже вскрикнуть. Он умер раньше, чем тело рухнуло на землю. Факел полетел из его руки и, упав на землю, поджег смолу. Тут же грянул выстрел из пищали картечью. Это был скорее знак для другого стрелка. Шестидесятилетний Осмол не замешкался. Из своего самострела он сразил всадника с факелом. И вот уже два горящих потока побежали навстречу друг другу. Встретились. Озарили ночные деревья и кусты. Дико заржали лошади, вставая на дыбы и скидывая с себя седоков. Грянул ружейный залп сразу с двух сторон. Били казаки картечью. Картечь хороша в таком бою, где нужно повредить лошадь, заставить ее безумно метаться, топча тех, кого она только что везла на своей хребтине. Два казака жердями стали валить за ранее подрубленные деревья, отсекая врагу возможность отступления.