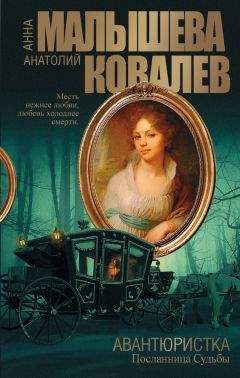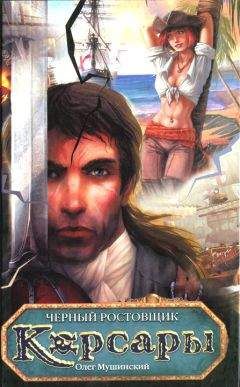– Здоров-то он с виду здоров, да кто его знает! – отвечал всезнающий мужик. – Возьмешь такого ребятенка в дом, да свою же семью и накажешь. Не ровен час, все от холеры примрут.
– Неужели среди вас нет никого, кто пожалел бы этого несчастного младенца? – обратился к мужикам и бабам Борис. «Неужели страх перед холерой сильнее христианской любви?» – про себя недоумевал он, оглядывая мрачные, непроницаемые лица.
Ответа не было. Люди упорно молчали. Малыш к этому времени замолк. Крепко обняв мертвую мать, он, постанывая, сосал ее холодный палец, ища себе пищи и спасаясь от страха.
– Где тут ближайший лазарет? – обратился к трактирщику штабс-капитан.
– Больница есть в селе Алтуфьеве, – подсказал всезнающий мужик вместо лишившегося от страха дара речи трактирщика. – Это верст девять отсюда, надо взять налево от столбовой дороги. Я покажу…
– Эй, братец, ты в своем уме? – дернул Бориса за рукав Андрей, который до сих пор не вмешивался в переговоры своего командира с крестьянами. – Девять верст туда и столько же обратно! Восемнадцать верст – займет у нас полдня. А через час проснется Вилимка, и мы карету с этим рыжим чертом на козлах уже не догоним. Ты проиграешь пари…
– К черту пари! – закричал Борис. – Вели седлать лошадей! Едем в Алтуфьево!
Белозерский с трудом оторвал малыша от матери. Он едва сделал шаг, прижав младенца к груди, как народ в страхе отпрянул одной живой волной.
– Дайте хоть тряпку какую-нибудь обернуть его, вы, христиане православные! – бросил он.
Одна из молодых баб, словно в беспамятстве, сорвала с себя новешенький цветастый платок и кинула Борису. Обернув в платок вновь заоравшего младенца, штабс-капитан ловко вскочил на коня, приведенного прапорщиком. Окинув напоследок жгучим взглядом крестьян, он хотел многое им высказать, пристыдить… Но так и не произнес ни слова, словно его сковало то же темное, тяжелое молчание, что и стоявшую у крыльца толпу.
Теперь, держа на руках младенца, штабс-капитан не рисковал гнать Преданного галопом и ехал рысью. Зато малыш, укачанный ровным бегом лошади, крепко уснул и не беспокоил больше душераздирающим криком господ офицеров. Вскоре добрались до Алтуфьева. Местный фельдшер, полный весельчак весьма почтенного возраста, осмотрев ребенка, констатировал, что тот абсолютно здоров, и принялся кормить беднягу хлебным мякишем, смоченным теплым парным молоком, сердобольно приговаривая:
– Наголодался, бедняжечка! У-ту-ту, какой крепыш! Хорошо тебя мамка выкормила, брат… – В его близоруких добрых глазах показались слезы. – Ну, ничего, жить-то надо, проживем как-нибудь… Мы тебя тут подкормим и пристроим к хорошим людям. Мальчики у нас нарасхват! Землю пахать надо… Пахарь будешь!
«Пахарь» сидел на коленях у фельдшера, прижавшись к его круглому теплому животу, с жадностью кукушонка заглатывал мякиш и, казалось, внимал каждому слову.
– А еще у нас прорезались два зуба, – продолжал добрый старик, – и мы будем кушать все, что нам дадут… Эге, брат, да ты не прост!
– Пожалуй, нам пора ехать, – встрепенулся Борис, умиленно наблюдавший за идиллической картиной.
– Честь имеем! – заторопился Андрей.
Оба щелкнули каблуками, звякнули шпорами и направились к двери, но их окликнули.
– Погодите, господа! – обратился к ним фельдшер. – А имя?
– Какое имя? – озадачились драгуны.
– Ну как же! Вы спасли мальчика и теперь должны дать ему имя.
– Глеб, – не раздумывая, предложил штабс-капитан. – Пусть будет Глеб Борисович.
– Прекрасно! – воскликнул старик и обратился к малышу: – Ну, что, Глебушка, уже съел свой хлебушко? А у меня еще есть кашка…
Но этой заманчивой кашки господа офицеры уже не увидели. Они вышли во двор лечебницы и направились к колодцу. Обоих мучила жажда. Белозерский набрал полное ведро и, обливаясь, захлебываясь от жадности, выпил почти треть, после чего передал ведро прапорщику. Но Ростопчин не успел даже отхлебнуть – внезапно над ними распахнулось окно, и добрый фельдшер в отчаянии закричал:
– Не смейте! Что вы делаете?! Вода может быть заражена!
– Да бросьте! – махнул рукой Белозерский. – Отличная вода!
– Нет уж, извольте в этом вопросе мне подчиниться, господа! – не унимался старик. – А коли хотите пить – пожалуйте ко мне на чай, скоро поспеет самовар… Холера близко, воду можно пить только вареную, запомните это и друзьям передайте! – И добавил смягчившимся, добродушным тоном: – Ну так что же? Чайку?
Однако чаевничать офицерам было некогда. Пожав плечами, Андрей вылил воду из ведра наземь и заявил:
– В трактире вина выпью! Оно полезней…
* * *
…Дальнейшее путешествие статского советника и графа Шувалова было безмятежным и легким и носило тот беспечный характер, который всегда доставляет путешественникам удовольствие и отвлекает от тяжелых дум. Уже перед самой Москвой, когда близился час расставания, Евгений признался:
– Веришь ли, брат Савельев, у меня на самом деле никогда не было настоящих друзей. Думал я, что есть один, да обманулся! Был такой, подполковник Андрей Рыкалов, из-за которого я в Петропавловскую крепость и угодил! На войне я считал его своим самым верным другом, а на поверку он оказался подлецом и завистником. Сам он состоял в тайном обществе, в Союзе Благоденствия, и меня как-то на собрание затащил, только я понятия не имел, куда попал. Мы там сильно повздорили… И представь, в отместку, чтобы меня погубить, он внес мое имя в протокол, в список членов общества, и после во все протоколы вносил! А сам вскоре вышел в отставку и уехал в Америку… Ау, брат, не достанешь его оттуда… А хотелось бы мне в глаза ему взглянуть! – Евгений кусал губы, вновь переживая те страшные дни заточения, когда его таскали на допросы, бессмысленные, оскорбительные, бесконечные. – Ну, это случай, вопиющий к небу, как говорили наши деды… Другие были проще. Скажем, мой кузен Павел, ныне сенатор Головин… В юности он мне казался идеалом и был ближе всех на свете. Каких только достоинств я ему не приписывал, да, по правде говоря, он ими в избытке и обладал! Есть люди, которые всем нравятся, которых все любят… Приветлив, ласков со всеми, блестящ в разговоре, неизменно уместен… И что же? С годами кузен превратился в чинушу, эгоистичного и трусливого… И я не могу ничего иного, как презирать его!
– С сенатором я имел случай пообщаться и могу сказать, что идеального в нем я заметил мало! – с улыбкой отвечал Дмитрий Антонович. – В нем наверняка и раньше было все то, о чем ты сказал, брат Евгений, только ты этого не замечал! Ты – человек без двойного дна, Шувалов, простой, в самом хорошем смысле, и потому ты видел в людях в основном положительные качества. С годами пришли страдания, пришел опыт, зрение обострилось. У меня вот в детстве тоже были два закадычных дружка, Васька Погорельский и Севка Гнедой. Я-то всегда знал, что они не ангелы, хоть Севка и сделался священником. Ваську отец часто бил, учил уму-разуму. Нынче он, унаследовав поместье покойного папеньки, сечет своих крестьян до смерти, день ото дня звереет и беспробудно пьянствует. Вот тебе и друг… Куда с таким?! Этого зверства в нем раньше не видно было. А с Севкой нас поссорила Елена Денисовна. Не простил он мне той «потешной свадьбы», которая вывернула наизнанку всю мою жизнь. До сих пор обиду держит, хотя по долгу службы (и дружбы!) должен бы простить. Гостил у меня недавно в Петербурге. Говорил красиво, долго говорил, до одури, примеры из Священного Писания приводил… А в душе, чувствую, презирает меня. Видит во мне только жандарма… – с тяжелым вздохом заключил Савельев.