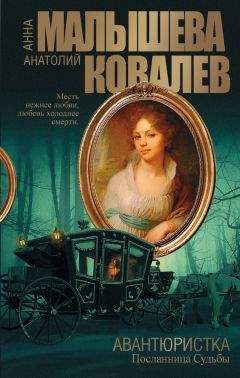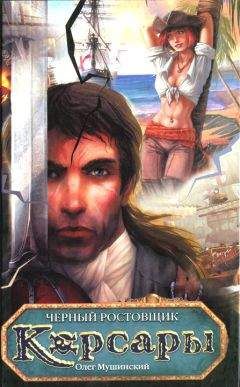Вилим утвердительно кивнул.
– Ну, так она уже во Владимире, говорят, на днях в Москву пожалует… Вот и тащатся из первопрестольной все, кто куда… Между двух огней оказались!
– Людишки в деревни бегут, как от чумы! – неожиданно вмешался в разговор пьяный пассажир. – Но холера – дело другое! – Он многозначительно ткнул пальцем вверх. – Невежи! Д-дураки! Воду пить нельзя, а надо пить вино!
Сделав это заявление, пассажир вновь повалился на сиденье кибитки и больше уже не поднялся. Спустя мгновение послышался его густой храп.
– А те, которые по Владимирке в Москву с дач возвращались, – продолжил извозчик, – в карантины все и попали. От Москвы до Владимира аж четыре карантина на заставах устроили. Первый в Обухове будет, впереди. Я как раз туда и везу господина фельдшера. А тебе, рыжий, – внезапно подмигнул он Вилиму, внезапно проявив некоторую живость, – не советую с нами до Обухова доезжать. Недели на две там застрянешь, это как пить дать. Эти все, что с нами едут, еще до Обухова по деревням рассеются, дорога опустеет.
– Ну, дела! – присвистнул Фигаро и озадаченно почесал в затылке. «Если поверну в Москву, – размышлял он, – непременно столкнусь с графом и получу на орехи за то, что не отвез княжну в Петербург!» Хитрец изначально замышлял доставить Татьяну в деревню хотя бы на сутки раньше, чем туда же явится Евгений, надеясь заручиться поддержкой Прасковьи Игнатьевны. Ведь графиня для того и послала сына в Петербург, чтобы он нашел себе невесту! Если женщины выступят против графа единым фронтом, тот не устоит – так рассуждал Фигаро. Не в пример другим камердинерам, Вилим хотел, чтобы его господин женился. Он был слишком уверен в своем влиянии на графа, чтобы бояться его утратить с появлением в жизни Шувалова жены.
Вильгельм Сапрыкин все еще мучился вопросом, ехать ему дальше или повернуть в Москву, когда впереди на дороге показались клубы пыли и послышался шум подъезжающих экипажей. Отчетливо стал слышен стук множества копыт.
– Это кто же там скачет навстречу? – удивился извозчик в барашковой шапке, любопытно вытягивая шею. – Видать, из Обуховского карантина кого-то выпустили! Ишь, несутся… Засиделись, знамо дело…
И в самом деле, навстречу каравану, плетущемуся по Владимирскому тракту, мчалось никак не меньше десяти разномастных экипажей. Поравнявшись с караваном, они замедлили ход, возницы пустили коней рысью.
Внезапно из окна проезжавшей мимо кареты раздался крик:
– Вилимка, черт рыжий! Куда?! Куда тебя несет?! А ну-ка, съезжай на обочину! – Из окна кричала не кто иная, как графиня Прасковья Игнатьевна.
Сапрыкин тотчас свернул на обочину, остановил карету и спрыгнул с козел, подняв тучу пыли. Карета Шуваловой также остановилась.
– Кто это? – успела испуганно спросить Татьяна, выглянув из окна.
– Маменька нашего графа, – громким шепотом сообщил Фигаро, округляя лукавые синие глаза. – Вы, сударыня, не извольте волноваться, положитесь на меня. Сейчас я вас ей представлю.
Графиня была в самом скверном расположении духа. Такой сердитой Вилим ее давно не видел.
– Ты только представь себе, – распахнув дверцу кареты, делилась она со слугой, как со старым приятелем. – Я целый месяц не могу добраться из деревни домой в Москву! Две недели меня продержали в Покрове и еще две недели – в Обухове! Неслыханное самоуправство! И какие там фельдшеры грубияны, ничего слушать не хотят… Я буду жаловаться самому… – Тут она осеклась, очевидно вспомнив, что является матерью декабриста и жалобы ее могут не возыметь прежней убедительной силы. – А где Евгений? Почему он не показывается из кареты? Спит? Болен? – Гнев на ее лице сменился страхом.
– Граф в полном здравии, – поторопился успокоить ее Вильгельм и загадочно добавил: – То есть, был в полном здравии, когда я его оставил… В карете я везу не графа…
– Где ты оставил его?! Кто в карете?! – еще больше испугалась Прасковья Игнатьевна.
– Вы не извольте беспокоиться, ваша светлость! – самым убедительным тоном произнес Фигаро. – Граф поехал из Питера в Москву в сопровождении своего приятеля, очень надежного господина, тот на государственной службе состоит… Должно быть, граф скоро в деревню прибудет. А везу я его нареченную невесту, княжну Татьяну Павловну Головину, дочь сенатора и вашего дальнего родственника.
– У меня голова кругом от твоих вечных фокусов… – призналась растерянная и в то же время обрадованная графиня. – Я и не знала, что у Павла имеется дочь… Как же это у них так быстро сделалось с Евгением?
Слуга очень коротко поведал о встрече ее сына с Татьяной, о внезапно возникшем между ними чувстве, а также о том, что Евгений, находясь под формальным арестом, отправил бежавшую за ним невесту обратно к родителям в Петербург.
– И пришлось мне пойти против воли господина графа, – без тени угрызений совести заявил Вильгельм. – Помилуйте, куда это годится? Кто так женится? Жених шесть лет просидит в медвежьем углу, а невеста что же? В Петербурге на балах щеголей немало! Так господин граф холостяком и останется. И повез я княжну прямиком к вам, в деревню! Под ваше покровительство, стало быть…
– Ух, рыжий черт! Пройдоха ты этакий! Я всегда в тебя верила! – восторженно воскликнула графиня Шувалова. Опершись на руку польщенного Вилима, она легко, по-молодому, спрыгнула на землю и поспешила к карете. Графиня распахнула дверцу и без всяких церемоний протянула руки невесте сына: – Вот вы где от меня прячетесь! Дайте же взглянуть старухе, порадоваться на вас! Танечка! Подите сюда, я вас обниму… Не бойтесь меня, я буду вам как мать… Послал Господь такую красавицу дочку на старости лет! Милостив ко мне Творец, милостив не по моим заслугам!
Подоспевший Вилим молча дивился тому, на какие бурные изъявления нежности оказалась способна его госпожа, всегда такая резкая, жесткая в своих поступках и мнениях. Он едва ее узнавал – даже суровое лицо графини, иссеченное морщинами пережитого страдания, вдруг сделалось свежее и моложе. Его черты смягчились, глаза мягко сияли.
Татьяна, всю дорогу храбрившаяся, но с трепетом ожидавшая этой встречи, которая решала ее судьбу, молча бросилась в объятия будущей свекрови. Внезапно девушка расплакалась. Слова Прасковьи Игнатьевны о том, что та станет ей матерью, вызвали в ее памяти недавние сцены петербургской домашней жизни. Ее собственная мать в последнее время совершенно к ней охладела, смотрела сквозь Татьяну, словно не замечая ее, не находила для нее ни единого ласкового слова. Девушка, не понимавшая причин такой перемены, страдала молча и не плакала, даже когда слезы подступали к самому горлу. Волю чувствам она дала только сейчас.