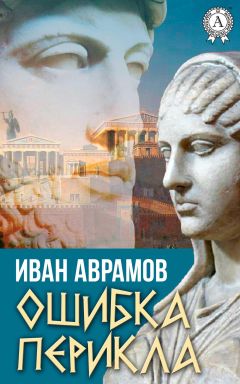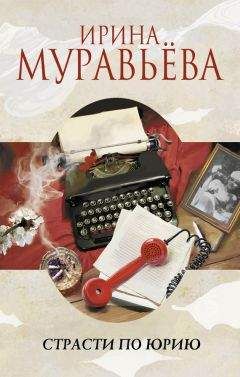Дифант, сыто икая, прилепился к золотому одуванчику Теодетте, одарив ее редкой красоты ожерельем с изображениями грифонов среди лилий и двумя старинными перстнями, сработанными финикийскими мастерами еще двести лет назад; однако на прелестном лице Теодетты читалась не радость, а обреченность, что ей предстоит провести ночь в объятиях грубого мужлана Дифанта, а не изысканной и нежной Хрисогоны, которая сейчас смотрела на подругу глазами, полными печали и понимания. «Увы, любовью со мной сыта не будешь», — как бы говорила Теодетте Хрисогона. А Дифант этих тонкостей не замечал. Схватив авлетриду в охапку так порывисто, будто с корнем вырвал изумительно-желтый одуванчик, он заторопился с драгоценной своей ношей на поджидающий его луг любви… А на саму Хрисогону давненько уж положил глаз Херсий, которому она и досталась.
Ксантипп в этих торгах не участвовал, искусно делая вид, что сегодня ему не до утех. Но внутреннее волнение нарастало: кому, кому все-таки достанется его вожделенная Археанасса? Кто окажется счастливцем — Пасикл или Ахелодор, которые уже приготовились вступить в спор?
— Пять золотых статеров, блистательная Археанасса, — несколько напыщенно возгласил Ахелодор.
— А я хочу тебя, божественная аркадянка, с коей никто в Элладе не сравнится в искусстве пения и танца, одарить семью золотыми статерами, — не остался в долгу Пасикл, от которого, конечно же, не укрылось, насколько увлекся авлетридой Ксантипп, но который сейчас вроде бы и не замечал Периклова сына.
— Десять статеров, — помрачнел Ахелодор, опрокидывая в себя килик с хиосским.
— Столько же и впридачу — вся золотая и серебряная посуда с этого стола, — улыбнулся насмешливо Пасикл. — Клянусь Громовержцем, любой скупщик драгоценной утвари оценил бы ее не меньше, чем в те же десять статеров.
— Пятнадцать! И к сему — две горсти золотых украшений и драгоценных камней, которые завтра, Археанасса, принесет тебе домой мой посланец.
— О, Археанасса, ты прекрасна, как сама Афродита! — воскликнул Пасикл, и Ахелодор вдруг ясно понял, что это крах его надежд. — И поэтому я хочу пролить над твоей головой поистине золотой дождь. Двадцать статеров, утварь из золота и серебра, что перед тобой, и вдобавок ларец с драгоценностями, которые сделают тебя еще краше!
Ахелодор понурился — на такой царский жест, который сделал Пасикл, он не отважился. Оставалось одно: устремить взор на какую-то из тех двух хорошеньких танцовщиц, чьих имен Ксантипп так и не узнал. Мгновением спустя сын притана даже повеселел: азарт — вещь опасная, и он вполне утешится с прекрасной девушкой за весьма умеренную цену. В конце концов, так ли уж разнятся женские ласки? Он почти забыл о досадном проигрыше и, увлекшись разговором с избранницей, не услышал слов, обращенных Пасиклом к Ксантиппу:
— Археанасса — твоя. Надеюсь, благороднейший сын великого Перикла, ты по достоинству оценишь мой подарок.
— Твоя щедрость, дорогой Пасикл, поистине не знает границ, — только и сумел ответить Ксантипп.
Совершая омовение во внутренней купальне, он думал: «Прав, тысячу раз прав Алкей, аристократ до мозга костей, когда уразумел, что знатность рода бледнеет перед богатством: «Деньги — это человек!»
Услужливый раб провел Ксантиппа в отведенную ему опочивальню, отворил дверь и, поклонившись, отправился восвояси.
Ксантипп сделал шаг вперед и замер. В зыбком свете единственного светильника Археанасса, совершенно нагая, стояла у широкого ложа и смотрела на Ксантиппа смеющимися глазами…
Новости из Спарты были плохими. И сомнений на сей раз у Перикла уже не оставалось: война неотвратима. Тридцатилетнее перемирие, о котором условились афиняне и лакедемоняне, летело коту под хвост. «Да, — подумал первый стратег, — зависть — самая тяжелая из болезней, слава Афин не дает спокойно жить Спарте. Той самой Спарте, которая вырождается, потому что только и умеет держать в руках меч. Потомки Ликурга разучились строить, возделывать пашню, холить виноградную лозу — зачем сие, если есть илоты? Потомки Ликурга безразличны к искусствам, а философия для них все равно что лира для осла.
Война — это всегда плохо. Война влечет за собой целую Илиаду бед. Вызов Спарты, впрочем, не был для Перикла неожиданностью. Он знал, что открытый конфликт, который, скорее всего, перерастет в затяжное военное противостояние, рано или поздно, но произойдет, весь вопрос в том, когда пробьет час испытания. Периклу хотелось, чтобы он не наступал как можно дольше — надо ведь осуществить все то, что он задумал. С некоторых пор Афины стали называть «Элладой Эллад», и это не только льстило самолюбию Перикла, но и уверяло в том, что если не все, но очень многое он делал правильно. Если бы боги даровали Афинам еще лет десять-пятнадцать мира, то неповторимый вкус «аттической соли»,[155]вполне возможно, стал бы своим, родным и для «беотийской свиньи»,[156]и чтущего одну лишь торговую выгоду Коринфа, чьи развращенные нравы давно уж являются притчей во языцех, и мегарян, в чьей крови угодить и нашим, и вашим, и левкадян, локров, фокийцев. Гроздь винограда, которую всесильным богам, чье жилище — Олимп, так напоминает своими очертаниями Эллада, он, Перикл, хочет видеть не растрепанной, а упругой, плотно сбитой, где ягоды-города тесно прижаты друг к другу. «О, Перикл, — однажды с улыбкой сказал ему Софокл, поэт и стратег, кажется, это было тогда, когда они отправились усмирять мятежных самосцев, — а знаешь, как тебя величают в тех полисах, которые особой любви к нам не испытывают? Перикл, брат старший…» «Что ж, в любой семье не обходится без старшего брата, коего, возможно, и не любят, но уважают и побаиваются. Согласись, друг мой Софокл, что Афины заслужили право быть для всей Эллады кем-то вроде старшей сестры», — ответил он тогда Софоклу. «Ты прав, — сказал Софокл. — Но мы, эллины, еще не почувствовали себя одной семьей. Вернее, мы вспоминаем об этом лишь тогда, когда приходится отбиваться от общего врага». «Когда-нибудь это всех нас и погубит…Если, конечно, не сожмемся в один кулак…»
Сейчас Спарта, вольно ли, невольно, пытается вовсе разжать этот так и не сжавшийся воедино кулак, похоже, глаза у нее на затылке, она, как Эпиметей,[157]крепка задним умом и когда-нибудь, глядишь, содрогнется: о боги, что же мы наделали! Спарта никак не поймет: где много петухов, там не рассветает.[158]Думая лишь о собственном престиже, забывает, что Эллада, раздираемая междоусобицами, легко станет добычей варваров.
Так думал Перикл, направляясь в народное собрание, где ему предстояло держать речь, от которой зависело многое. Углубленный в свои мысли, он не замечал встречных сограждан. Небо над Афинами было чистым и спокойным. С той поры, как отсюда изгнали мидийцев, оно не знало, что такое дым пожарищ. Боги милостивы, не узнает и теперь. Лакедемоняне, впрочем, не столь уж прямолинейны. Дабы выглядеть поприличнее в глазах эллинского мира, они поторопились обрядиться в хитон благочестия, вложив в уста своих послов требование очистить город от давней скверны, что сулило им двойной выигрыш — больше еще одним поводом для войны, а самое главное — это серьезный выпад против самого Перикла, ведь по материнской линии он принадлежал к славному и знатному роду Алкмеонидов. Они-то много лет назад и были причастны к святотатству — убийству сторонников Килона, зятя мегарского тирана Феагена. Вознамерился стать тираном Афин и сам Килон, коему дельфийский оракул туманно изрек, что в его руках однажды окажется афинский акрополь, а произойдет это во время величайшего праздника Зевса. Килон акрополем овладел, однако возмущенные афиняне осадили крепость, обрекая мятежников на голодную смерть. Килон, заваривший кашу, сумел вместе с братом спастись бегством. Его же сообщникам, находящимся при последнем издыхании и прячущимся в храме у алтаря богини, стража пообещала жизнь, но, выведенных наружу, тут же, по наущению архонтов, перебила. А первым среди архонтов был далекий предок Перикла — Мегакл, который затем был изгнан из Афин, что, впрочем, не помешало его потомкам впоследствии вернуться в родной город и сделать для него немало полезного — достаточно вспомнить хотя бы того же Клисфена, при котором в городе учредили «совет пятисот», а высшей властью наделили народное собрание. Аристократы ненавидели Клисфена столь же сильно, как теперь — его родича Перикла.