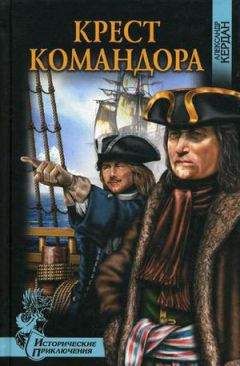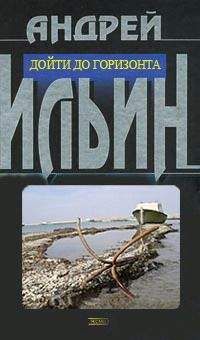– Сие является подозрительным, – снова пожевал губами Мерлин, напомнив Гвоздеву морского диковинного зверя, коего промышлял он с тем же Петровым в позапрошлый голодный год.
Мерлин пристукнул пухлой ладошкой по столу и произнес назидательно:
– Не слыхано такое, чтоб ответчик показателя содержал под своим караулом…
Он надолго замолчал. А Гвоздев, потрогав правую порванную мочку, подумал, что поступил верно, не сказав Мерлину, как признался на допросе Петров, что это он прострелил ему ухо во время штурма острожка. Тут-то подполковник точно усомнился бы в его непредвзятости, а ведь поступил он с Петровым по совести, а вовсе не из мести.
Гвоздев вспомнил, как, гнусно ухмыляясь, сетовал Петров:
– Жаль не снес тебе башку, ваш бродь! А ведь целил в неё. Жаль, промазал…
– Чем же я так досадил тебе, Леонтий? – искренне изумился Гвоздев.
Петров смачно выругался и ответил:
– Заносишься больно. Сам из простых, а хорохоришься, будто царёв сродственник…
– Как же иначе? – снова удивился Гвоздев и словно другими глазами взглянул на старого сослуживца. – Я же должность исправляю. А служба и дружба рядышком не ходят. Еще Пётр Великий обязал корабельных капитанов и прочий начальственный люд с матросами не брататься, дабы поблажки не было. Сам посуди, без дисциплины какая служба!
– Ну служи, служи, ежли ты такой правильной, – прищурился Петров, – а мы поглядим, что из энтого выйдет…
Мерлин прервал воспоминания. Строго приказал:
– Дела, господин геодезист, передашь новому командиру – Добрынскому. День тебе даю на это. А после поедешь со своим доносителем в Охотск. Там разберутся, кто прав, а кто виноват. Пока же полагай себя под домашним арестом.
Добрынский оказался человеком молодым, простодушным и разговорчивым. Принимая у Гвоздева острог, он между делом поведал, что в Охотск вместе с ним отправятся и Иван Спешнев, и Генс, а так же доносители Петров и Скурихин. Последний обвинил Спешнева в растрате казенного имущества. А ещё рассказал Добрынский, что в день их отъезда состоится публичная казнь бунтаря Харчина и девятерых его соплеменников, а также огласят приговор тем русским, кого следствие посчитало виновными в лихоимстве.
– Кто ж они? – спросил Гвоздев, будто сам все эти годы не вёл разбирательства.
Добрынский, гордясь своей осведомленностью, назвал имена:
– Вместе с камчадальцами будут повешены комиссар Новгородов, пядидесятник Штинников и сборщики ясака Сапожников и Родихин. На них более всего указывали. Да ещё кнутом накажут шесть десятков казаков и ясашных сборщиков…. Чтобы впредь красть неповадно было…
На улице, как будто в подтверждение слов нового командира, бойко застучали топоры, запели пилы. Гвоздев выглянул в окно: плотники на площади перед часовней, построенной вместо сгоревшей церкви, возводили помост и виселицу.
– А Сорокоумова Алёшки, случаем, среди наказуемых не припомните? – поинтересовался он.
– Не припомню, а что, Сорокоумов повинен в чем? – оживился Добрынский. Очень уж не терпелось ему проявить начальственное рвение.
– Да это я так, к слову, – поспешил отговориться Гвоздев.
Он-то досконально вызнал, что именно с этого шустрого казачка и начался бунт подъясашных ительменов. А вот теперь ещё раз подивился непредсказуемой судьбе: кто виновней других, тот и остается без наказания.
И хотя не был Гвоздев человеком особенно набожным, а тут пришли на ум слова из Святого Писания: «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде…» Обнадеживала Библия, и всё же заскребли кошки на душе: «Когда этот суд праведный свершится? Где? Уж, конечно, не на грешной земле. Вот я что промолчал? Почему не выдал Сорокоумова? Он мне – не кум, не сват…» Еще тошней сделалось: «Самому-то кто поможет? Второй раз допросов с пристрастием не вынести!»
С тяжелым сердцем взошел Гвоздев на бот, идущий в Охотск. Это был тот самый «Святой Гавриил», на котором ходили они в 1731 году к Большой земле вместе с покойным Фёдоровым. И снова защемило сердце: то, давнее, плаванье закончилось пыточной, и нынешнее не сулит иной доли…
Вёл бот Софрон Хитрово, знакомый Гвоздеву по прежним приездам в Камчадалию. Но сейчас с арестованными Хитрово держался официально, разговоров избегал. За две недели плаванья лишь однажды подошел к Гвоздеву и обронил, будто невзначай:
– В Охотске, Михайла Спиридонович, Бог даст, повидаете своего знакомого, – и больше ни слова.
«Кого повидаю? Почему штурман сказал так туманно?» – гадал Гвоздев, раскачиваясь на койке в матросском кубрике.
Как ни странно, но морская качка успокаивала его. Вроде бы море и не его стихия: удел геодезиста – земля, но начинал-то Михайла – сын солдата Семёновского полка, в морской навигаторской школе, а после и в Морской академии учился. Там приобрёл помимо геодезических и картографических знаний навыки строевого офицера, обучился основам кораблевождения и ведения вахтенного журнала, мог работать с навигационными приборами и, в случае нужды, исправлять обязанности штурмана. Так и случилось во время похода к Большой земле, когда Фёдоров заболел скорбутом и не смог выходить из каюты. Гвоздев благополучно привёл «Святого Гавриила» обратно на Камчатку, не потеряв ни одного человека в команде. Разные начальственные должности занимал, восстание камчадалов подавил, строил остроги и корабли. А наградой за все труды стала задержка в присвоении офицерского звания. Вечным клеймом прилепилось к нему прозвище «солдатский сын». И даже обращение – ваше благородие – звучит насмешкой: нечего со свиным рылом лезть в калашный ряд!
– Жизнь – это мокрая палуба, – учил его на первой морской практике похожий на обломок гранитного утеса седой боцманмат. – Продвигаться по ней, господин гардемарин, следует осторожно, чтобы не поскользнуться! И всякий раз смотреть надобно, куда ногу поставишь…
Следовать этому мудрому совету, ступать с оглядкой, никак у Гвоздева не получалось…
Снова и снова прислушивался он к дыханию Ламского моря, раскачивающего корабль. Размеренно бьют волны в обшивку, поскрипывают переборки, хлопают паруса. А под килем – бездна: «Что такое человеческие тщеты, по сравнению с неукротимой стихией?..»
…Охотск встретил их неласково. Море штормило. Берег был скрыт серой мглой, сквозь которую едва заметно промаргивал маяк. Хитрово не рискнул в такую погоду входить в устье Охоты и приказал отдать якоря в полумиле от берега. На следующее утро, когда волнение поутихло, он съехал на берег для доклада командиру порта и получения распоряжений.