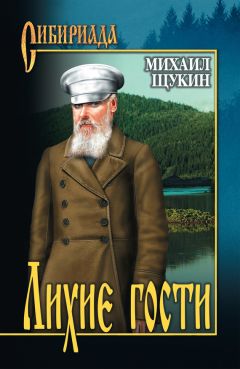– Я никак не могу, уважаемая Нина Дмитриевна, быть попечителем нового общества. Музыка, литература и вообще всякие высокие искусства – это удел Ильи Васильевича. Я сам слышал, как он однажды публично сожалел, что у нас до сих пор нет в городе музыкальных вечеров. Илья Васильевич! С вами Нина Дмитриевна желает поговорить…
Отпустил пухлый локоток и быстро-быстро, не оглядываясь, вернулся на прежнее место.
– Извините, Захар Евграфович, – Окороков смущенно развел огромными ручищами и шумно вздохнул, – уж такая натура у нас, неугомонная. Растеребит сейчас нашего голову… А пойдемте лучше в буфет, слышал я, что буфет нынче отменный.
Захар Евграфович согласно кивнул, направился следом за Окороковым в буфет и успел еще краем глаза увидеть, как Илья Васильевич, подобрав от удивления пухлый животик, пятился перед неудержимым напором Нины Дмитриевны, пока не уперся спиной в стену. А упершись, замахал ручками и согласно закивал головой.
В буфете, разговаривая о разных пустяках, Захар Евграфович с Окороковым выпили коньячку, хорошо закусили и оба пришли в прекрасное расположение духа.
– Я рад, Захар Евграфович, что наша француженка делает успехи, – говорил Окороков. – К слову сказать, поинтересоваться хочу: как она? Не скучает?
– Да я, знаете ли, все в разъездах, даже и не разговаривал ни разу. С Ксенией Евграфовной они очень подружились, думаю, что не скучает.
– Вот и хорошо. Сколько я бумаги исписал… Значит, говорите, не скучает? Да-да… А если мы еще коньячку попросим, не возражаете?
– Не возражаю.
Попросили еще коньячку, но выпить его не успели. В буфет, громыхая мерзлыми сапогами и длинной шашкой, ввалился городовой и, почтительно лавируя между столиками, подошел к исправнику, быстро зашептал ему на ухо. Захар Евграфович успел расслышать только одно слово: «Накрыли…» Но не придал услышанному слову никакого значения. Мало ли кого накрыли. Народец в Белоярске пестрый, беспокойный, и работы у служивых чинов всегда хватает с избытком.
Окороков быстрым движением отодвинул рюмку с коньяком и скорым шагом вышел из буфета, даже не попрощавшись.
А Захар Евграфович, посидев еще некоторое время за столиком, поднялся и пошел в залу, где по-прежнему гремела веселая музыка.
Он хотел увидеть Луизу.
И закрутилось-завертелось, как в неистовую метель, когда в белой сплошной круговерти ничего не различишь и не разберешься, где земля, а где небо.
Подхватило Захара Евграфовича и понесло.
Куда делась его обычная рассудительность и трезвость делового человека, обремененного многими каждодневными заботами?!
Видно, выдуло любовным ветром, который теперь гулял у него в голове без всяких препятствий.
С утра он еще появлялся в конторе, отдавал распоряжения, подписывал бумаги, которые подавал ему Агапов, но к обеду уже взгляд туманился, Захар Евграфович невпопад начинал отвечать и не выпускал из рук карманных часов, высчитывая не только часы, но и минуты, когда вернется Луиза, закончив уроки в приюте. Он хотел держать ее за руку, слышать звенящий смех; он шалел, когда она негромко, чуть нараспев произносила: Луканьин. Ксения все видела, но ничего не говорила, только смотрела на брата долгим, тихим взглядом, и во взгляде этом было сплошное недоумение – она не знала, как ей следует поступить: осудить Захара или, наоборот, порадоваться за него. Сам же Захар Евграфович остывал лишь рано утром, когда купался в ледяной проруби. А все остальное время сжигала его неодолимая страсть, вспыхнувшая скоро и ярко, как сухой хворост. О своих чувствах он не говорил Луизе, лишь смотрел на нее и терял дар речи. Когда же пытался обнять и поцеловать, она всякий раз гибко выскальзывала из его рук и сразу же, повернув голову, нежно улыбалась, словно просила прощения. В такие моменты Захар Евграфович едва-едва себя сдерживал, чтобы не взять ее силой. Все-таки помнил и старался даже понять, что она совсем недавно потеряла мужа.
Зима приближалась к своему исходу, погода стояла – лучше и не придумать: каждый вечер шел неслышный снежок, и казалось, что он теплый. К ночи поднималась большущая круглая луна, роняла на землю свой негреющий свет, и снег, только что выпавший, искрился, и качались над ним невесомые голубые тени. Захар Евграфович, употребив все свое красноречие, на какое был способен, уговорил Луизу покататься, и сам взялся править сильным скаковым жеребцом Громом, запряженным в легкие, почти игрушечные санки, застланные ковром и волчьей полстью [19] .
Гром, застоявшийся в конюшне, понес с такой силой, что Луиза испуганно вскрикнула, но затем замолчала, успокоилась и рассмеялась, словно вторила медному колокольчику, который бился под дугой. Пролетели по Александровскому проспекту, миновали Вшивую горку, свернули на лесную дорогу, и глухой стук копыт и звон колокольчика заметались между темными елями, стряхивая с широких веток свежий, еще неулежалый снег. И так славно было мчаться по узкой лесной дороге, осиянной зыбким лунным светом, подставляя лицо встречному ветерку, так сильно и гулко бухало сердце, такая сила закипала в руках, что Захар Евграфович не удержался и запел неведомую, без слов, песню, которая вырвалась сама собой из его груди.
Прямая дорога, просекая густой ельник, летела вперед. Гром бил копытами в накатанный снег, высекал мелкие крошки, и они успевали на лету блеснуть под лунным светом, будто цветные камни.
И вдруг услышал Захар Евграфович, что Луиза подпевает ему, также без слов, и что голос ее звучит радостно и нежно. Он натянул вожжи, остановил Грома, крутнулся на облучке и упал в ноги Луизе.
Темные ласковые глаза были рядом, они блестели, и казалось, что таится в них невысказанное ожидание. Захар Евграфович протянул руки, положил их на плечи Луизе и притянул к себе, чтобы сияющие эти глаза, завораживающие его, были еще ближе. Но узкая теплая ладонь легла ему на губы, и он различил прерывистый шепот:
– Мсье Луканьин… Не глядьеть… Глаза… – и она показала рукой вперед, вдоль дороги, – глаза… там…
Захар Евграфович не понимал. Тогда она прижала ладони к его щекам, заставила повернуться и снова прошептала:
– Не глядьеть…
Он послушно сидел, не оборачиваясь, а за спиной у него – непонятный, вкрадчивый шорох, а затем тихий-тихий, почти неразличимый шепот:
– Глядьеть…
Захар Евграфович обернулся, и пресеклось дыхание. Выступая из вороха одежды, словно из воды, Луиза сделала по волчьей полсти короткий шаг навстречу к нему и будто засияла всем своим обнаженным телом: покатыми узкими плечами, плавным изгибом бедер, тонкими руками, беззащитно скрещенными на полной груди. Захар Евграфович рванул с себя шубу, накинул ее на узкие плечи и осторожно уложил Луизу на волчью полсть. Он не чувствовал холода, нутряной жар сжигал его, а мягкие, отзывчивые губы Луизы только разжигали этот жар. Она послушно отдавалась ему, угадывая его желания, принимала в себя, и тонкие руки, словно заблудившись, нежно бродили по большому и мускулистому телу, которое вздрагивало равномерно и сильно.