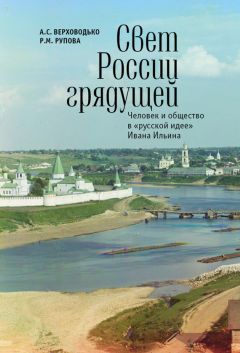Так начиналась эпоха влияния журналистов на умы, которая теперь достигла своего пика.
Сторонники «Писем» Чаадаева стали именоваться «западниками», их противники – «славянофилами». Оба названия нелепы и не отражали всех полутонов этого энергичного поиска разными людьми нашей национальной идентичности.
Западники были уверены, что Россия – часть Европы, что Петр сделал великое дело, вписав нас в семью европейских народов, что для улучшения жизни надо всего лишь продвигать просвещение и прогресс. Они были фанатично заражены этой идеей прогресса, в достижениях которого Запад преуспел, а значит, нужно всего лишь перенять все у Запада.
Но какой Запад был им знаком?
Вот, например, Белинский, «отец русской интеллигенции» и один из агрессивнейших западников, который сознавался, что «в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут» [51]; которого даже на бумаге трясло от триады «православие-самодержавие-народность» (прочтите его письмо Гоголю); который ввел в широкое употребление выражение «квасной патриотизм». Он считал, что у России своего вообще крайне мало – и только сейчас, в XIX веке, что-то начинается в нашей стране («Русская личность пока – эмбрион» [52]) и в литературе («Придет время, – просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, – и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!» [53]). Заявлял, что лишь сейчас появляются надежды на все тот же обожествляемый им прогресс и торжество «здравого смысла» – как часто за этими понятиями прячут не бог весть что.
Белинский толком и не знал Запада! Он понахватался в университетских кружках и спорах мыслей разных западных философов – что-то от Шеллинга, что-то от Гегеля – или вовсе перенял мнение своих друзей, а в любимой им Европе впервые побывал только на закате жизни, приехав на немецкий курорт Зальцбрунн лечить чахотку. Видеть Европу из больничной палаты – не то же самое, что знать ее изнутри.
Московский университет Белинский не окончил, был отчислен с третьего курса за неуспеваемость. Языками, кроме начал французского, не владел. Н. А. Бердяев писал о нем, что при всей исключительности дарований «уровень его образования был невысокий, он… знакомился с идеями, которыми был увлечен из вторых рук».
Такой была (и часто до сих пор остается) Европа в мыслях и глазах западников: вымышленной, додуманной, не знаемой ими доподлинно. В реальности того Запада, о котором они грезили и какой описывали, не существовало.
А вот настоящий Запад, как это ни странно, чаще видели и понимали славянофилы, которых их оппоненты описывали карикатурными патриотами и замшелыми ретроградами.
Например, Киреевский – один из лидеров этого движения – уже к 16 годам на домашнем обучении знал европейские языки и греческий, с которого переводил святого Максима Исповедника (с комментариями). Продолжив образование в Европе, он изучил немецкую классическую философию не только на лекциях, но и в непосредственном дружеском общении с Шеллингом и Гегелем, слушая их лекции и общаясь с ними в домашней обстановке.
Именно славянофилы видели все западные болезни: быстро развивающийся индивидуализм, мертвящий рационализм. Видели и понимали, что эти черты Запада неизбежно приведут к его деградации, к предсказанному в Евангелии оскудению любви, а следом будет и «закат Европы», исследованию которого в начале следующего, XX века посвятит свой труд философ Шпенглер.
Потому славянофилы удерживали Россию от горячего слепого следования такому же гибельному пути, предлагали вернуться на собственную дорогу. Аксаков сформулировал: «Для России одна опасность – перестать быть Россией».
Это западники подарили русским либералам будущего миф о внутренней тяге к тираническому правлению, якобы унаследованной нами от Орды и Византии [54], что не имеет ничего общего с реальностью. Да, русские понимали, что России для выживания необходима сильная власть, и готовы были объединяться вокруг нее, но на произвол и несправедливость отвечали всегда неподчинением и бунтом.
Славянофилы считали, что русский человек, в отличие от западного, еще не был заражен стяжательством и другими пороками, поэтому в будущем у России есть шансы воплотить в жизнь некий идеал христианского общества, в котором живы подлинная свобода и братство. Для достижения этого идеала необходимо было восстановить социально-культурное единство русского народа, нарушенное реформами Петра I, и вернуть Россию на путь ее самобытного развития. Славянофилы заявили о том, что Россия – это отдельная цивилизация, которая должна искать собственные пути в мировой истории, а не просто подражать кому-то.
Киреевский, Аксаков, Хомяков не ненавидели Европу. Сестринскую западнохристианскую цивилизацию они любили почти так же, как и русскую, православную. Они знали ее красоту, ее великую историю, она была для них почти такой же родной, как и своя собственная. Но они жалели европейцев, сердца которых превращались в ледышку под влиянием идей рационализма, просвещения, прогресса, и не хотели такой судьбы для нас.
Славянофилы не были праздными мечтателями или кабинетными философами. Например, пока западники только говорили, славянофилы приняли реальное участие в подготовке крестьянской реформы и освобождения крестьян [55]. Жаль, основатели кружка не дожили до ее осуществления. Даже либеральный в юности Пушкин под влиянием славянофилов признавал в последние годы жизни, что «Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европой… история ее требует другой мысли, другой формулы».
Но народное сердце через десятилетия склонится к «формуле» западников – и Господь попустит их победу. Социализм, терроризм, народничество, революция – это все западные проекты и инструменты.
В советское время западники во главе с Белинским были крайне популярны. Им – точнее, некоторым из их последователей, – удалось увидеть в XX веке Запад таким, какой он есть, когда после революции они спасали там свои жизни.
Православие – Самодержавие – Народность
Первый номер журнала Министерства народного просвещения от 1833 года начинается со вступительного слова министра Уварова, который словно схватывает витающий в воздухе в эти годы поиск национальной идентичности и формулирует концепцию русского государства: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование… совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия, Народности».
Так рождается триада, которая для одной части общества станет недопонятой, но раздражающей мишенью [56], для другой – на долгие годы сформулированным идеалом устройства русской жизни. Прозорливый Уваров увидел всю русскую иерархию.
Русский народ религиозен – ПРАВОСЛАВИЕ.
Потому он предан царю, которого понимает как помазанника Божия, – САМОДЕРЖАВИЕ.
Вокруг царя и Бога народ объединен и в этом единстве не зависим ни от чего внешнего – НАРОДНОСТЬ.
Уваров пишет, что Россия крепка «единодушием беспримерным», тогда как другие народы «не ведают покоя и слабеют от разномыслия». Поэтому одна из главных задач русского царя – охранять это «единодушие» России от «разномыслия» Запада: «царь – хранитель