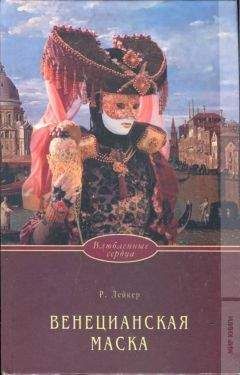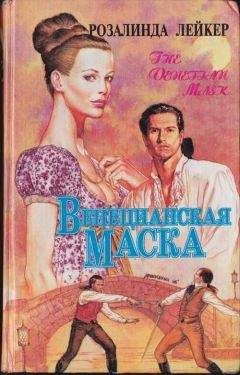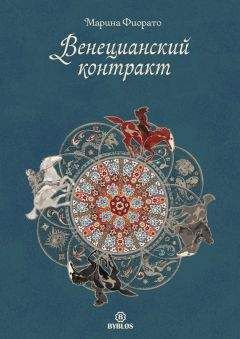— Это мне кажется самым весомым из всех аргументов, — уточнил он.
Аполина пропустила эту фразу мимо ушей.
— Ты упомянул о трех месяцах траура для Элены. Так вот, не считаю, чтобы это было необходимо. Ведь все это время мне придется находиться здесь и приглядывать за ней. А тебе доподлинно известно, как я терпеть не могу торчать в Венеции в самое жаркое время года.
— И меня бы тоже устроило, чтобы свадьба состоялась как можно скорее.
— Тогда пусть это произойдет через десять дней после того, как похоронят моего дорогого Марко. А скорбеть о нем я буду всегда и везде — для этого мне не обязательно здесь находиться. Я и так куда ни посмотрю, везде мерещится он. И вообще, по-настоящему оплакать его я смогу лишь в собственном доме.
— Я понимаю тебя, мать, — Филиппо не был способен на жалость или сочувствие, но он сумел понять, почему ей захотелось остаться наедине со своими невзгодами и воспоминаниями — просто она любила свой дом больше, чем этот дворец.
— Когда ты собираешься сказать Элене, что она будет твоей женой? Я думаю, тебе это надо сделать прямо сейчас.
Вначале он и сам так подумал, но теперь, взвесив все, решил отказаться от этого намерения. Если он подчинится своей матери сейчас, это даст ей лишний козырь в руки, и ему уже никогда не освободиться от ее досадного влияния.
— Сделаю это, когда сочту необходимым, — возразил он, — а не тогда, когда кому-то вздумается.
Синьора Челано видела, что перегнула палку. Этот из ее сыновей мало чем походил на Марко, на преданного ей Марко, который прислушивался к каждому ее слову до тех пор, пока эта вертихвостка не встала меж ними. Она никогда не сможет простить этого Элене. Даже когда на смертном одре сам Марко вроде бы смягчился по отношению к ней, к его любимой матери, и отчужденность последних дней стала исчезать, все равно рана в ее душе болела не переставая, и рубец от нее останется на всю жизнь. Нет, Филиппо не таков, этот станет прислушиваться к ней лишь тогда, когда ему самому будет выгодно. Аполина всегда недолюбливала его за завистливость и упрямство.
— Можешь поступать как угодно, — с достоинством ответила она, еще больше вводя его в заблуждение тем, что не перечила ему. — Но сейчас, будь добр, оставь меня. Я очень устала.
Филиппо поцеловал ей руку и вышел.
В день похорон Мариэтта с двумя монахинями пришла сопроводить Элену. Процессия направилась по воде на один из островов, где находилось кладбище Венеции. Гондолу, в которой они находились вчетвером, каким-то образом сумели оттеснить от той, где сидели близкие родственники и немногочисленные члены семьи Челано. Каждая из гондол украсилась в этот день закрепленными на носу традиционными малиновыми лентами — знаком траура. Драпировка из черного бархата спускалась до самой воды с бортов гондолы в траурном убранстве, где находился гроб с телом Марко, на черном бархате выделялся фамильный герб семьи Челано.
Элена, вся в черном, как и остальные женщины, с достоинствам переносила горе. Когда все положенные церемонии завершились, Мариэтта и монахини распрощались с Эленой на ступеньках дворца, никто не собирался приглашать их. Одинокая фигурка Элены исчезла в огромных дверях, изрядно отстав от основной группы родных и близких, поднимавшихся по широкой лестнице. Лишь лакеи выразили ей свое сочувствие поклоном, когда она проходила мимо них.
На мраморных ступенях ее дожидался Филиппо. Все чувства подсказывали ей, что сейчас должно произойти что-то неприятное.
— Эти похороны — тяжелое испытание для вас, Элена. — Она никак не могла ожидать от него подобных проявлений сочувствия. — Я понимаю, через что вам пришлось пройти. Марко имел бы полное основание гордиться вами.
В том состоянии, в котором она пребывала, эти слова сочувствия, первые за все время со дня смерти Марко, застали ее врасплох. Филиппо взял ее под руку, и Элена с благодарностью подумала, что он собирается отвести ее в гостиную, где сейчас должны были состояться поминки по усопшему и где собралась часть родственников. Но вместо этого он повел ее через двери, расположенные дальше, в какую-то маленькую гостиную, и когда он сказал, что хотел бы поговорить с глазу на глаз, ее прежние страхи вернулись. Когда они оказались в комнате, она невольно отступила на несколько шагов.
— О чем вы хотели поговорить со мной?
Филиппо прекрасно осознавал, что не обделен красотой, считая себя мужчиной, на которого трудно не обратить внимания, и даже улыбнулся ей, чтобы успокоить. Ничего, когда-нибудь эта Элена сама поставит точку на его братце Марко, и все у него будет как надо. Филиппо был уверен, что эта девушка, всю сознательную жизнь проведшая в нужде и жестоких ограничениях, совершенно потеряла голову от сознания перспектив приобщиться к той жизни, которую ей сулил Марко. А чем он хуже Марко? Он в состоянии дать ей не меньше, а, может быть, даже больше.
— Мы должны пожениться, Элена, — без долгих проволочек заявил он. — Мой долг — сдержать обещание, данное моим братом, и дать тебе возможность жить в этом дворце, хозяином которого являюсь я. Кроме того, ты мне очень нравишься, и мне бы хотелось, чтобы ты пошла за меня — я буду гордиться этим. А тебе никогда и ни в чем не придется нуждаться — как ты сможешь убедиться, я способен быть и щедрым.
Элена застыла как вкопанная, не в силах сдвинуться с места и не произнося ни слова. Ужас по мере понимания всей чудовищности этого предложения холодком медленно поднимался по ее телу. Будто со стороны, она внезапно услышала, что у нее стучат зубы. Какой-то частью разума она понимала, что ничего странного в этом не было, что это с ней часто бывает в минуты очень сильного страха, но в целом ее разум, казалось, был парализован. Филиппо, подойдя к ней, поднял с ее лица траурную вуаль.
— Это больше не понадобится — сейчас мы пройдем в соседнюю гостиную, и я объявлю собравшимся, что мы с тобой поженимся через неделю.
Она продолжала молчать, огромными глазами уставившись на него. Но когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее, Элена повела себя очень странно — просто ощерилась на него, как дикое животное, которое загоняли в угол. В ответ на это он, как бы в назидание на будущее, резко схватил ее за запястье и, открыв дверь, почти втолкнул ее в огромную гостиную.
Элена переодевалась к свадьбе. Она не вымолвила за день ни единого слова. Около часа колдовал парикмахер над ее прической, расчесывая длинные волосы и укладывая их длинными прядями по вискам так, чтобы они свисали по спине, как этого требовал обычай — считалось, что такая прическа служит признаком целомудрия. Завитые локоны спереди опускались на лоб. Теперь, надушенная и подкрашенная, она стояла Посреди девичьей спальни, и с полдесятка женщин, включая Лавинию, хлопотали вокруг ее драгоценного свадебного наряда.