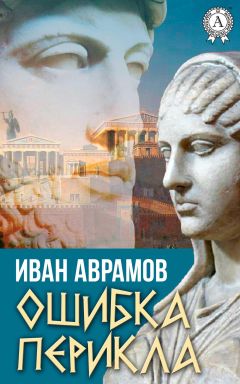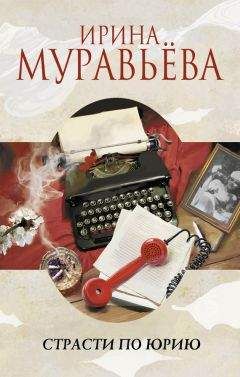— Сегодня уж седмица, как он слег, — прошептала Аспасия, неподвижно стоя позади мужа.
Перикл, неотрывно, скорбно глядя на сына и вспоминая свои с ним отношения, в душе даже вздрогнул от пугающего ясностью и безжалостностью озарения: сын и…афинский народ, да-да, ни больше ни меньше — именно народ, мало чем отличались друг от друга, если принять во внимание, какие чувства они испытывали к Периклу. Ксантипп, как и народ, отца то любил, то ненавидел, Ксантипп, пожалуй, в последние годы был в этой ненависти даже более постоянен. А Перикл Ксантиппа, как и всех афинян, всегда любил и жалел, хотя поводов для недовольства бывало достаточно.
Взрослый умирающий сын вновь, как много-много лет назад, показался Периклу беззащитным младенцем. Простилось сейчас даже то, что Перикла уязвило наиболее сильно: Ксантипп, забыв о чести и порядочности, одолжил у одного почтенного афинянина, пребывающего в дружбе с отцом, крупную сумму денег — якобы по просьбе Перикла. Когда обман раскрылся, Олимпиец был потрясен до глубины души. Он отказался платить по долговому обязательству, чем подбросил много новых поленьев в костер Ксантипповой ненависти, которая превратилась в ползучую змею ядовитых сплетен и грязных слухов, распускаемых сыном об отце.
«Смерть примиряет, — горько думал Перикл. — Смерть беспощадна и к достойным, и к недостойным».
Вслух же он попросил Аспасию:
— Вели передать Гриллу: я очень прошу, чтобы он употребил все свое искусство.
Ужинали вдвоем. Молча. Перикл ел неохотно, через силу. От вина отказался. Прикипев долгим взглядом к изжелта-золотистой, как камень электрон,[199]грозди винограда, потом взяв ее и опять долго-долго держа перед собой на весу — о, боги Олимпа, как же она напоминает единую и неделимую Элладу, произнес наконец ровно и безучастно:
— Обстоятельства, дорогая Аспасия, складываются против меня. Я предвидел, кажется, все. Да, все… Кроме чумы.
— Я знаю… Афины похожи на растревоженный улей: кого бы обвинить да ужалить побольней. У крикунов на устах одно имя: «Во всем виноват Перикл!» У афинян короткая память. Забыто все, что ты сделал для этого города.
— Гнев народа, как и влюбленного, продолжается недолго. Не сегодня-завтра я постараюсь успокоить людей. Я напомню им, что в час беды следует быть стойкими.
— Народ Афин давно задолжал петуха Асклепию.[200]Что бы ты им не сказал, они, ослепленные яростью и желанием выместить на ком-то злобу, тебя не поймут. Знай, Перикл — ты наливаешь вино жабам.[201]
— Ты не права, Аспасия. Народ, как и человек, тоже способен ошибаться. Рано или поздно, но он это поймет. Увы — другого народа у меня нет. Впрочем, — Перикл впервые за весь вечер улыбнулся, — ты не была бы женщиной, если бы сказала по-другому. Чувства часто одерживают верх даже у самой умной женщины. Даже у такой, как ты, несравненная Аспасия.
Всегда после долгой разлуки Перикл делил ложе с Аспасией. В тот вечер она осталась в гинекее одна, унеся с собой его нежное, как бы в извинение, объятие. Олимпиец смертельно устал. Ему требовалось побыть наедине с собой…
Народное собрание, конечно, знало всю необыкновенную силу красноречия Перикла, которое, кстати, отнюдь не походило на пустоцвет, а всегда подпитывалось железной логикой и неотразимыми аргументами. Но сейчас в глазах всех, кто заполнил Пникс, читалось одно: непримиримость, злоба и мстительная, нескрываемая радость. И еще прямо-таки выпирало наружу: «Ты такой же, как мы. Даже хуже нас. Ты умничаешь, потому что забыл слова Симонида:[202]«Ни в чем не ошибаться могут только боги».
Перикл остался верен себе — сначала он хотел услышать глас народа. Первый оратор уже направился к помосту-возвышению, как во всеобщей тишине прозвучала реплика, нарочито громко отпущенная аристократом Фанагором:
— Никак, у нас сегодня праздник. Наконец-то народ имеет честь лицезреть «Саламинию».[203]
Ядовитый намек сей, в общем-то, справедлив: Перикл действительно нечасто появляется перед народом, полагая, что второстепенные дела тот решит и без него. Когда вокруг колодцы да фонтаны, желающий испить воды не очень-то ее ценит. Напился, и хорошо. А сладкая капля воды где-нибудь в ливийской пустыне жаждущему запомнится навсегда. Перикл всегда хотел, чтобы слово из его уст уподоблялось именно этой вожделенной капле.
Народ Афин обвинял первого стратега так, словно тот был его злейшим врагом. Необыкновенная голова Перикла, которая «вовсе не кончалась», превратилась в прекрасную мишень для стрел ненависти, летящих так густо, будто целое войско пускало их в одинокого, попавшего в ловушку великана.
— Перикл перепутал людей со скотом! Даже самый нерадивый пастух знает, что овцам, согнанным на огороженную площадку, необходим некий простор, дабы спокойно разлечься и набраться сил.
— Мор опустошает город с невиданной быстротой! Вымирают целые семьи, роды! Спартанцы предают Аттику огню, а Афины в это время задыхаются от дыма погребальных костров! Видывала ли когда-нибудь Эллада столь странную войну? Ты, Перикл, явно не в своем уме, коль думаешь, что эта твоя стратегия единственно верная. Кто, скажите, способен лучше, чем Перикл, порадеть своему гостеприимцу?
— Город завален трупами умерших от чумы. Их никто не собирает, не предает земле, случается, и не сжигает. К телам несчастных наших сограждан брезгуют прикоснуться даже вороны, даже голодные одичалые псы. Кара богов пала на наш город. Ибо то, что творит уверовавший в собственную непогрешимость Ксантиппов сын, противно и Зевсу-Вседержителю, и нашей заступнице Деве Афине!
Стрелы ненависти, остро отточенные, безжалостные, беспощадные, Перикла, казалось, не доставали; он сидел на своем месте сосредоточенный, безучастный, с непроницаемым лицом; призванные разить наповал стрелы отскакивали от него, потому что он был прикрыт щитом железной выдержки, выработанной десятилетиями политической борьбы. Так, по крайней мере, казалось тем, кто внимательно наблюдал за первым стратегом. А Перикла, между тем, одолевала выматывающая душу разрыв-тоска: он в очередной раз не понят своим народом. Не затем он, преодолевая сопротивление и злые козни ограниченных тугодумов, завистников, лентяев, просто врагов, строил афинский дом, чтобы теперь вот разбить кувшин у самых дверей.[204]Гераклиту в правоте не откажешь: «Борьба — отец всего и царь всему». Это означает лишь одно: он должен переубедить народное собрание, помочь каждому из сограждан сохранить присутствие духа. Одно из двух! Либо их город из-за малодушия народа падет, и тогда несчастье обрушится поголовно на всех, либо пострадают отдельные афиняне (жертв, конечно, окажется много), но город, родина будут спасены.