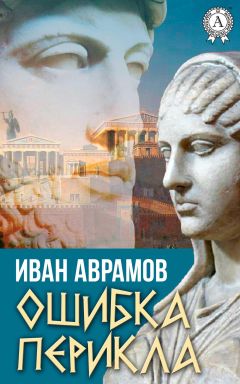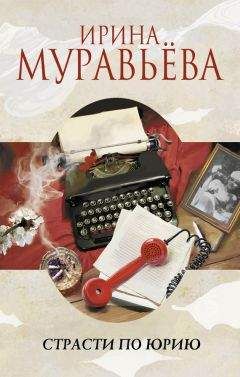— Они, видимо, думают, что я богат, как лидиец Крез, — удрученно улыбнулся Аспасии Перикл, стараясь ее, разгневанную, чуть успокоить этим сравнением.
— Надеюсь, теперь ты ненавидишь своих неблагодарных афинян? — запальчиво бросила мужу та.
— Нет, — ответил Перикл. — Я их жалею.
— Ты, оклеветанный, несправедливо наказанный, лишенный всех своих должностей, ты, кому в обозримом будущем власть уже недоступна, ты, одним махом превращенный в обычного афинянина, так легко прощаешь это своим не помнящим добра согражданам?
— Перестань, дорогая Аспасия, — поморщился Перикл. — Сейчас ты сама не заметила, как уподобилась им. Да, я не в восторге от афинян, я ими недоволен, как когда-то, по совсем другому поводу, бывал недоволен бедным Ксантиппом. Но все-таки, пойми, мне их жаль.
А через несколько дней лицо железного Перикла стало мокрым от слез — он плакал навзрыд, неутешно, не стесняясь своей слабости. Как речная вода рвет наконец запруду в самом уязвимом месте, так и эти слезы нашли брешь в феноменальной выдержке Олимпийца: чума отобрала у него последнюю надежду — умного, доброго, мягкого Парала. Возлагая на покойного венок, он впервые в жизни не справился с собой. Но афиняне его поняли: это и вправду жесточайший удар судьбы, когда прекращается твой род, когда некому будет оплакать тебя, некому будет тебя помнить, некому будет даже справить надлежащие обряды. Много кто вздрогнул при известии о смерти младшего сына Перикла: недоброе, ох, недоброе это предзнаменование для всего города, на который боги Олимпа обрушили свой гнев…
Сострат вышел из дому с утра, потому что оставаться там ему было совершенно невмоготу — волком, что ли, выть в четырех стенах? Жизнь, которой он так дорожил в последнее время, показалась ему теперь совершенно ненужной. Иногда он даже думал, что лучше бы ему размозжил голову тот огромный камень, что обрушился на красавца-великана Гиперида. Боги оказались бы к нему милосердными, если бы он, а не Гиперид, пал замертво под стенами Потидеи.
Клитагора, любимая жена Сострата, умерла у него на руках в тот самый день, когда он наконец переступил родной порог. Впрочем, на руках — сказано слишком громко. Желание жить тогда у Сострата было столь велико, что он даже боялся прикоснуться к умирающей — ее последние страдания облегчал верный раб Атис, беспрестанно поя ее холодной водой. Дом был полон тяжелыми запахами рвоты, нечистот — Клитагору мучил жесточайший понос, и Атис не успевал сменять подстилки. И еще один запах был просто непереносим — сладковатый, тошнотворный запах гноя, вытекавшего из лопнувших волдырей, которые обильно усеяли красивое дородное, сейчас нагое тело Клитагоры. Месяц назад, когда Сострат находился на войне, она похоронила младших сына и дочку, теперь вот настал ее черед. Была семья — и нет! Ни ум, ни сердце примириться с этим не могли.
— Я пойду на войну, отец, — сказал, не отрывая глаз от матери, старшенький Мнесарх. — Клянусь Афиной-Палладой, там я скорее останусь жив, чем здесь, где все пропитано заразой.
— Иди, сынок, — безучастно ответил Сострат. — Наверное, ты прав. Только, пожалуйста, береги себя, кроме тебя, у меня больше никого нет.
Где, какими улицами он проходил, Сострат решительно не помнил. Да и все они сейчас ничем не отличались друг от друга. Афины превратились в город, где свое черное гнездо свила смерть. Трупы валялись вповалку, как после сечи, часто громоздились друг на дружку; кучки пепла соседствовали с грудами полуобгорелых костей; новые чадные, распространяющие убийственный запах горелого человеческого мяса костры; к колодцам и фонтанам с питьевой водой не подступиться из-за скопищ полумертвых шатающихся, чаще лежащих прямо на земле людей, они в предсмертной истоме, их постоянно мучает жажда, они пьют, пьют, пьют воду и никак не могут напиться. Крики, стоны, проклятия, икота, безумный смех, хрипы, надрывный кашель, плач, рыдания — так шумно справляет свой пир чума.
Нечем заняться Сострату. Ни о чем думать ему не хочется. Бредет он по Афинам просто так — куда глаза глядят.
А на этой улице… А на этой улице воздух сладко колеблется от звуков арфы и сразу нескольких флейт. Здесь люди веселятся напропалую, потому что не знают, доживут до утра или нет. Такие дома уже не раз встречались Сострату. Одни Афины в судорогах издыхают, другие Афины пока еще пощажены мором, они предаются, впав в безумие, разнузданному разврату, самым терпким наслаждениям. Успеть, успеть перед смертью урвать от жизни как можно больше. В царстве теней не веселятся, не пируют, там тихо, мрачно, неприкаянно, а если поточнее, даже лучшие умы Эллады не знают, каково там на самом деле. Философ Демонакс, когда его спросили, что, по его мнению, представляет собой Аид, пожал плечами: «Когда сам увижу, тотчас сообщу вам». Старый хитрец! Никто еще оттуда, из-под земли не подал голоса. Никто и никогда!
За спиной Сострата послышалось чье-то тяжелое сопение. Он обернулся — из роскошного дома, что напротив этого, откуда льется музыка, трое мужчин, по которым сразу видно — чернь, катили на тележках дорогую мебель, прочую утварь, за ними четвертый несет на вытянутых руках гору тончайших, скользких, как шелк, восточных тканей, за ним еще один еле передвигает огромную амфору, полную то ли вина, то ли оливкового масла.
— Чего вылупился? — рявкнул на Сострата тот, кого еле видно было из-за неперевязанного тюка тканей. — Хочешь поживиться — заходи, там много чего осталось.
И это Сострат уже видел тоже. Воистину, Афины погрузились не только в темный, не имеющий дна омут разврата, но и в пучину беззакония. Все прежние установления рухнули для людей в одночасье, как старая дверь со ржавых петель. Опустелые дома, имущество, ценности становились легкой добычей тех, кто еще стоял на ногах. Безнаказанность делала смелыми даже самых отъявленных трусов.
— Заходи, заходи! — подбодрил Сострата тот, кто волок амфору. — Они пожили сладко — теперь наш черед.
Сострат покачал головой, в которой сейчас вроде бы прояснилось — неосознанное желание вдруг окрепло, и он понял, что ему хочется туда, где играют музыканты, где именно в это самое мгновение запели звонкие женские голоса, где стол ломится от яств и вино льется рекой. Он решительно направился к калитке, которая смутно показалась ему знакомой, и вдруг обмер: ба, да ведь это дом Меланта, управляющего серебряными рудниками. Пройдоха Мелант, который два года назад попался в его лапы — лапы начинающего сикофанта. Подергался, как мышь в когтях у кота, и обмяк…
Некоторое время Сострат колебался, потом махнул рукой: «Оба — злодеи: и тот, кто крадет, и тот, кто пользуется краденым».