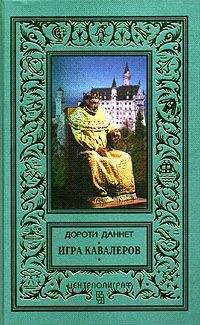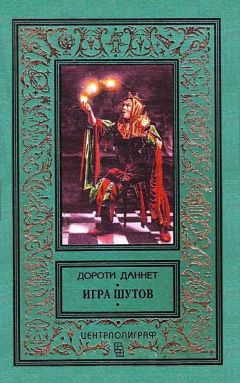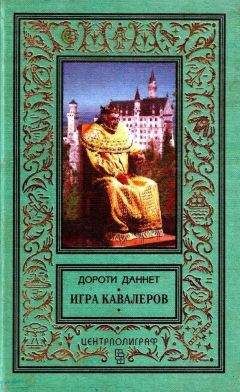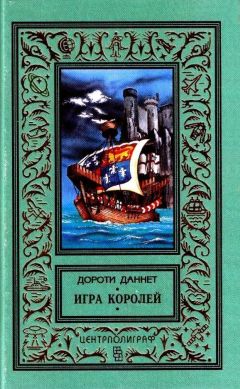Прижавшись к его плечу, обтянутому мягким шелком, она закрыла глаза. Он ласкал ее, развязывая шнурки и расстегивая застежки, попадавшиеся на пути, так, чтобы тело ее беспрепятственно могло познать его руки. Он что-то нежно нашептывал до тех пор, пока разум ее не погрузился в оцепенение; в этой комнате, в ней самой и в нем, зрело нечто, от чего перехватывало дыхание.
Его руки изучали ее, пробуждая одно за другим все чувства — нарастающий, предвещающий грозу аккорд под гибкими пальцами музыканта. Тьма содрогалась, будто раскалывалась земная кора, и в трещинах бушевало пламя. Четко, неспешно, сдержанно он собрал и объединил в неистовый гимн все порывы ее бессонных ночей. Заключив всю ее жизнь между своих ладоней, он решительно поднял ее и, чуть покачивая, как согретое вино в слишком хрупком бокале, отнес и положил на темную постель, где изначально, полная злобных помыслов, Уна собиралась отдаться ему.
Танцы в саду прекратились. Еще какое-то время голоса резко звучали в ночи, то стихая, то вновь набирая силу в раскованном под воздействием винных паров смехе. Затем голоса смолкли и зашуршали шаги слуг, жаждущих скорее лечь в постель, кубки зазвенели на подносах, жалобно застонали уносимые лютни, зашаркали щетки и, наконец, в темных замках, Новом и Старом, установилась тишина, нарушаемая только плеском фонтанов, напоминающим звуки арфы.
Во многих комнатах валялись разбросанные под лунным светом атласные ткани, и ночь проходила без сна за любовными играми. Только для одной дамы всю ночь продолжала играть музыка, сохраняя все свое великолепие, требуя порой большего, чем она могла дать. Она не знала ни где она, ни с кем, так как Лаймонд подарил ей лучшее, чем обладал. На одну ночь он отделил душу Уны О'Дуайер от ее разума, на одну-единственную ночь она стала свободна.
Это был первый и последний раз. Они не знали друг друга, когда это началось, и по-прежнему ничего не знали, когда все закончилось. Они обнимали мечту, а не плоть. Его глаза обратились к далекому горизонту, а ее душа, чуждая посевам и всходам, улеглась, урывая хоть час покоя.
Уна пробудилась на рассвете, когда дрозды громко пели на апельсиновых деревьях, и, не помня вчерашнего, повернула голову на подушке, где разметались ее черные пряди. Но не голова Кормака покоилась рядом… Фрэнсис Кроуфорд смотрел на нее, простыня была откинута с его плеч, подбородок уткнулся в скрещенные руки. Казалось, он уже давно лежит без сна, погруженный в раздумье. Он тотчас улыбнулся блистательной, мимолетной улыбкой, дружеской, озорной, и сказал на ее родном языке:
— Ты великолепна, моя госпожа, и мы провели с тобой чудесную ночь. Но если бы ты сейчас заставила меня поставить ударение хоть на какой-нибудь слог, мне пришлось бы молить Бога, чтобы он даровал мне силы.
Она смотрела на руку с длинными ногтями, непринужденно лежащую под подбородком, на светлые взъерошенные волосы, на тонкое лицо, в котором выражался врожденный аскетизм, опровергающий произнесенные слова. И при свете зари в тишине нетронутых воспоминаний о ночи, сверкавших, как драгоценности, погруженные в воду, она вспомнила, зачем это было нужно.
Она намеревалась доказать ему, что руки его пусты. Вместо этого он дал ей в двадцать раз больше того, что стоили ее тайны, ее гордость, да и она сама. И пренебрегая великими законами гостеприимства и человечности, забыв обычаи своего народа, она, дабы не потерять себя, должна была швырнуть это ему в лицо. Уна смотрела на него, и он долго не отводил взгляда, затем отвернулся, оперся локтями о перину, погрузил лоб в кружево, окаймляющее руки, и закрыл глаза.
— Что ж, Уна?
С выражением горечи на лице Уна плавно села, и тяжелый шелк волос упал ей на плечи.
— Жил некий король по имени Кормак, знавший женщин, — произнесла она ровным голосом. — «Забывчивые в любви» называл он их. Им нельзя доверять тайны, у них всегда готово оправдание. Они отлынивают от работы, они хилые в состязаниях, сварливые в спорах, глухие к обучению, бесполезные в обществе, красноречивые по пустякам. Их следует остерегаться, как диких зверей. Лучше сечь их, чем им потакать. Лучше подавлять их, чем лелеять. — Она помедлила, затем продолжила невозмутимо: — Это правильные слова, и лучше я их скажу, чем ты. Итак, ничего не вышло и не выйдет до тех пор, пока Темаир снова не станет обиталищем героев.
Его встрепанная голова не шелохнулась, но в лице что-то дрогнуло, и опущенные веки сомкнулись еще крепче. Он ожидал такого ответа, и было мало радости в цветистости слога: никогда не бывшая в ладу со словами, Уна роняла их наугад, словно зерна в иссохшую почву. Не осуждая ни слов ее, ни поступков, он только сухо сказал:
— Значит, не получилось. Я так и знал.
Она, отвернувшись и сжав руками колени, тихо проговорила:
— Мы оба торговцы снегом. Такая уж наша участь, Фрэнсис.
Его мать однажды сказала ей такие слова, но этого Уна говорить не стала. Не рассказала она и еще кое о чем, ему неизвестном.
Проворным движением он перекатился на спину. Лицо его казалось задумчивым, на смуглой груди виднелись шрамы, оставшиеся после Тур-де-Миним.
— Я не имею желания становиться Диогеном.
— Я тоже… — Она оборвала начатую фразу и минуту спустя, негодуя на себя за слабость, сказала бесцветным голосом: — Я продам тебе сведения, которые ты так хочешь заполучить, за пять тысяч французов, выведенных из Шотландии.
Он так долго молчал, что она уже не рассчитывала получить ответ. Затем каким-то чужим голосом произнес:
— А если я опозорю тебя и Кормака, разоблачив д'Обиньи, кто поведет вашу замечательную армию?
— Не волнуйся. Я не стану губить О'Лайам-Роу только потому, что он мне немного нравится. Я найду кого-нибудь другого. — Она обернулась. — Разве вдовствующая королева не пойдет на это ради спасения дочери? Вся Шотландия и половина Франции ждут, чтобы французская оккупация закончилась. Или ты решил сделаться новым любимчиком старой дамы и иметь с этого доход?
— Успокойся, — сказал он и, положив руки Уне на плечи, опустил ее на подушку. Она лежала, тяжело дыша, бледная, с темными кругами под глазами. — Успокойся. Я никому не приносил присяги, у меня нет амбиций, но то, о чем ты просишь, невозможно. Трон слишком неустойчив. Если бы не влияние королевы-матери здесь и в Шотландии, он бы опрокинулся и девочка все равно бы погибла.
Она резко повернула голову и поймала проблеск веселья в его глазах. Он не стал прятать взгляда.
— Не надо портить утро: лежи рядом и ничего не говори, — попросил он. — Моя постель не место для торгов, что бы ты там ни думала. Я ничего не могу предложить тебе, кроме самопознания. Если ты не хочешь признаваться даже ради этого, мне больше нечего продать.