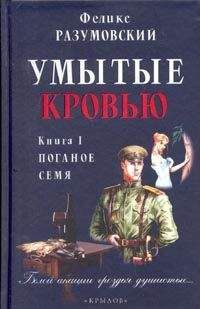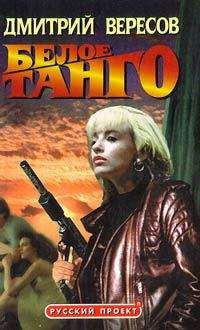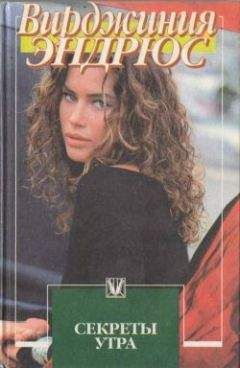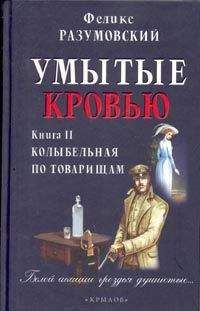– Наконец-то. – Не доев, Паршин отставил тарелку и, положив в стакан побольше сахару, взялся за фруктовый, приготовленный из кожицы плодов, цикория и измельченных косточек чай. – А то уж выть на луну хочется, тоска собачья.
Последнюю неделю он отчаянно скучал. Ночные променады по вымерзшему городу приелись, рыжая гимназистка, на деле оказавшаяся пустой, избалованной стервой, вызывала теперь лишь чувство брезгливости. Хотелось домой, в Питер, к отцу, ну а если по пути шлепнут большевики, что ж поделаешь, значит, судьба.
Страшила ел молча, на скулах его угрюмо катались желваки. Один Бог знает, как ему обрыдла такая жизнь, – не жизнь, трясина. Пресная, тягучая, полная ничегонеделанья и приторного, словно патока, назойливого бабского сюсюканья. Да он как будто женился снова, черт побери! Петечка, надо то, Петечка, надо се, Петечка, птенчик, не уезжай! Хорошая Полина баба, но все же лучше без ее нудной суеты, без этого докучливого участия, без слез, ревности, каких-то там не выполненных обязательств и нелепых, вызывающих ухмылку претензий. Без всей этой прилипчивой женской сырости. Устав от монотонной жизни, Страшила жаждал перемен, и, похоже, ждать оставалось недолго.
День сегодня начался спокойно, без стрельбы, однако выскочивший на разведку Хайм вернулся в очень бледном виде и заплетающимся языком поведал вещи совершенно жуткие. Будто бы он встретил тетю Песю, ту тетю Песю, что имела интерес с кривым Шнеером Кацем, так тот своим глазом видел, как на Подоле матросня резала кацапов, потом хохлов, и, само собой, добрались до евреев. Затем они сделали несчастье винной лавке Менделя Брика и, побив в округе все, что еще можно побить в округе, с песнями пошли к вокзалу, но встали на рога и дошли до ручки. Был сплошной крик, частая стрельба и лужи спирта на розовом снегу.
– Четвертый погром, четвертый погром. – Губы Хайма дрожали, лицо приобрело цвет его хорьковой, крытой зеленым верхом шубы. – Это ж будет море крови, тьма египетская, седьмая казнь Господня! Будет очень плохо, чтоб мне так жить. Страшно подумать, Маркс еврей, Троцкий еврей, даже Ленин и тот еврей, а у меня четвертый погром. О чем они там думают у себя в Совнаркоме! Нет, такую революцию я видел в гробу, уж лучше в Аргентину.
И, усевшись на корточки, обхватив голову руками и раскачиваясь, словно кобра под дудочку, он принялся бормотать на древнем языке:
– Борух ато аданай, борух ато аданай…
– Громче молись, большевики тебе устроят Аргентину. – Граевский прикончил кашу, вытер усы, поднялся. – Что-то засиделись мы в Киеве, господа, пора бы нам и честь знать.
Возражений не было. Сняли гимнастерки, шинели, переоделись во что бог послал и, распрощавшись со всеми, с чувством облегчения стали выбираться наружу. Чертовы товарищи, одиннадцать дней жизни – как в песок!
Мадам Полина плакала, Хайм продолжал исступленно раскачиваться, рыжая гимназистка, прихорашиваясь, занималась туалетом – белые, красные, зеленые, какая разница, баба – она и при советской власти баба.
– Ну, счастливо, приятель. – На кухне Граевский подмигнул коту, вытащив маузер, передернул затвор и, убрав оружие за пазуху, неожиданно скривился в усмешке: – Помните, господа, побольше хамства.
– Насчет хамства, командир, не сомневайся. Устроим малый крестный ход с революционными песнопениями. – Из необъятного кармана Страшила извлек «белоголовку», ловко шлепнул ладонью о донышко, отхлебнул и пустил бутылку по кругу: – Причащайтесь, господа, благословенны будем. Аминь.
Не очень-то он походил на священника – в плечах трещал новехонький, перепоясанным ремнем кавалерийский полушубок, ботфорты, пропитанные гусиным жиром, лоснились, глубоко, по самые уши, был натянут шелковый буржуйский котелок.
– А как у нас с репертуаром? – Граевский выпил водки, так, глоток, для запаха, передал бутылку Паршину. – Чего урежем, Женя? «Марсельезу», «Варшавянку» или, может, «Вставай проклятьем»?
Со стороны казалось, будто ему безумно весело, на самом же деле на его лице была гримаса ненависти. Ненависти к себе. Ишь, как ты, Граевский, за жизнь-то свою цепляешься, наизнанку вывернуться готов, лишь бы товарищи шкуру не содрали. Мерзость, малодушие, мышиная возня, лягушачье трепыханье в крынке с молоком. Как просто – взвести курок, набрать воды в ствол и, сунув в рот, нажать на спуск. И все – ни мыслей, ни воспоминаний, только темнота.
Так ведь нет, сил не хватает, чтобы поставить точку. Недостает мужества сказать себе – все, стоп, пора заканчивать этот маскарад, финита ля комедия. Или не финита? Вдруг все еще изменится, вернется на круги своя? Ну не может ведь этот бред длиться вечно! Надежда все же умирает последней. А все зло от женщин. Не волочиться надо было в Питер за чужой женой, а ехать в Доброармию к Корнилову, уже вовсю теперь стрелял бы красных, не отсиживался бы по подвалам вместе с крысами. Что? Война в печенках сидит? Устал от вида льющейся крови? Ну, тогда давай, валяй шута горохового перед пьяными товарищами, пока не поймешь, что все равно середины не будет, впереди только кровь, война и лютая ненависть. Смертельная ненависть.
– «Марсельезу»? Может, на французском? – Паршин приложился к бутылке, закашлялся, вытер рот рукавом длиннополой, не по размеру, бекеши. – Все равно что «Боже, царя храни». «Славное море – священный Байкал» – вот самое подходящее для этой сволочи. Всех бы погрузить на баржи и – на дно… – Он нехорошо усмехнулся, из-под бараньей шапки глаза его сверкнули яростью: – Ничего, за все, большевички, заплатите, ох, за все…
На улице потеплело. Небо сочилось влагой, из-под сапог летело слякотное месиво, с крыш свисали слезливые сосульки. Однако дождь и грязь не помешали красным приступить к строительству новой жизни. Отовсюду слышались крики, выстрелы, звенели стекла и трещали вышибаемые двери. Не иначе как для борьбы с простудой большевички баловались спиртиком, причем без удержу, с пролетарским задором, и толпы их, пьяненьких, расхристанных, мутной волной растекались по городу. Вся власть Советам!
– Сыровато, однако. – Выйдя из «Пассажа», Граевский закурил, сдвинул на ухо каракулевую папаху. – Не застудите горло, господа, как бы песню не испортить.
Спотыкаясь, расшвыривая грязь, они двинулись замысловатым зигзагом, скоро их вынесло на середину мостовой, и, юродствуя, в каторжанской манере, Паршин затянул дребезжащим козлитоном:
Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко!
Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя…
Граевский со Страшилой вели запевалу под руки и пронзительно вторили ему дикими голосами, на редкость фальшиво и невпопад.