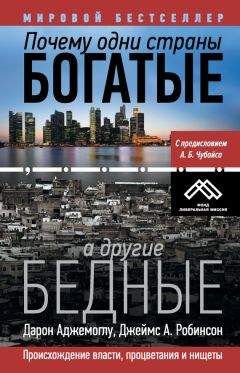– Надо бежать!
Доминик упал ничком. Помертвевший взгляд Адонии остановился на его спине и торчащей из неё рукоятке метательного ножа.
Комната качнулась перед её глазами. Снова раздался призывный крик невидимого кота.
Она не помнила, сколько времени провела, ползая на коленях вокруг неподвижного тела. Валялся в стороне мокрый и тёмный нож. Она не могла дышать, и ловила, словно вытянутая из воды рыба, широко раскрытым ртом воздух. Изо рта её, поблёскивая, стекала тонкая струйка слюны. Она ничего не слышала вокруг себя, не слышала тревожных и сильных ударов в запертую дверь, и не слышала, что сама исходит надсадным воем.
Дверь выломали в тот миг, когда она, взяв в руку нож и обнажив грудь, хотела разрезать её, чтобы вынуть своё живое сердце и вложить в грудь Доминика взамен его, мёртвого. Неимоверным усилием воли держащееся на грани реальности и небытия сознание её устремилось к выполнению единственного желания: оживить его, отдать ему своё рвущееся из груди сердце.
Адония очнулась через полчаса, связанная, уложенная на жёсткие доски кровати. Склонившийся над ней полицейский что-то требовательно спрашивал, но она видела лишь его шевелящиеся губы, а звука голоса до неё не доносилось. Она медленно повернула голову на чужой, словно каменной шее, посмотрела туда, где оставался лежать Доминик. Его тела там уже не было. Только тёмная лужа широко заливала пол. Почувствовав удар неслыханной, неописуемой боли, она вздрогнула и провалилась в бездонную чёрную яму.
За окном, в светлом просторе ясного утра, в некотором отдалении снова проорал кот.
«Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам».
Уильям Шекспир, «Гамлет».
Доминик открыл глаза. Над ним склонилось глубокое и тёплое небо. Взгляд художника мгновенно отметил его многоцветность – бирюзовый, пурпурный, золотистый, светло-аквамариновый, белый. И непроизвольная, детски-радостная улыбка рванулась из души Доминика навстречу к этому живому, бездонному существу. Он захотел встать – и встал, но, к своему удивлению, не приложил для этого никаких усилий. Он лишь осознал, что желает подняться – и вот уже он стоит. Посмотрел вокруг – и онемел от восторга. Повсюду, насколько хватало глаз, его окружала чуть всхолмленная равнина. Высокие, выше пояса, травы какого-то хрустяще-зелёного цвета покрывали её. И эти травы несли цветы – такие, каких не вызвала бы и в самом искушённом воображении самая пронзительная мечта. То огромные, похожие на хризантемы шары, то плоские чаши с длинными и тонкими к оконечностям, как мазок кисти, полупрозрачными лепестками, то разлетевшиеся во все стороны былинки с шаровидными многоцветными венчиками. Где-то отдельные стебли среди сплошной зелени возносили вверх одинокие пушистые благоухающие бутоны, а где-то громадные поляны и целые острова слитно покачивающихся цветов сияли и сверкали переплетёнными струями цвета. Вдруг эта чарующая картина стала дрожать и расплываться в каком-то влажном радужном мареве; прежде ясно различимые лепестки утратили чёткость и ясность: на глазах художника выступили горячие слёзы.
Он шагнул – и не почувствовал под ногами опоры. Опустив взгляд полуослепших глаз, он увидел, что медленно движется, невесомо возвышаясь над дышащей теплом плотностью земли. И ещё увидел, что сама земля излучает солнечный свет, и этот свет поднимается, струясь между стеблями трав и цветов, к небу, и растворяется в нём. Торопливо подняв голову, Доминик увидел, что самого солнца в небе нет, но всё вокруг – и земля, и травы, и небо, и неподвижно стоящие в небе сверкающие белизной башнеобразные облака – всё напитано этим разлитым в пространстве светом. Светом! Земное убогое слово. Здесь это был не свет. Лучезарность.
Он медленно плыл в звенящем море цветов. Он прикасался к ним трепетными ладонями, и цветы с неописуемой нежностью тянули к его ладоням свои бутоны и чаши. Время от времени художнику чудилось, что они даже говорят с ним, и он что-то из обращённого к нему понимает!
Прошёл, по его представлению, полный день, но равнина цветов, в которой он парил, оставалась бескрайней. Скорее по привычке, а не от необходимости, решив лечь для заученного его телом ночного отдыха, Доминик медленно откинулся на спину, и благоуханная плотность трав, упруго и мягко прогнувшись под ним, приподняла его над землёй.
Но не приходила ночная привычная темнота, лишь только небо умерило переливчатую интенсивность своего немого сияния. Его цвета наполнились глубокими, бархатными тонами. Доминик спал, не засыпая, и вместо опять же заученной телом усталости он отдыхал от бремени золотого восторга. Глядя в притихшее небо, он вспоминал день, прошедший в разговорах с цветами, и горячие капли слёз, выкатившись из уголков глаз, побежали к вискам, вниз, унося с собой растворённую соль земных огорчений, разочарований, обид.
Решив, что наступило утро, он встал – то есть невесомо поднялся, и в эту минуту посмотрел на себя. На нём струилось белоснежное одеяние, в котором он, ничего раньше об этом не зная, угадал непрозрачную ткань, излучаемую собственным телом. Прошёл миг – и он сам, и одеяние его, и всё вокруг озарилось радостно засветившимся небом.
Он медленно потёк сквозь травы, и вдруг понял, что среди бескрайнего многообразия цветов он узнаёт те, с которыми уже знаком, с которыми он вчера говорил, и эти цветы тянутся и медленно кивают ему как доброму, давно знакомому. Тогда, протягивая к ним руки, он принялся наделять их именами – и не поверил, откуда в его сознании нашлось столько новых, и непривычных, и соответствующих красоте и аромату цветов, и их непохожести друг на друга, имён. А те, кого он назвал, на глазах становились ещё выше, ещё благоуханнее, и вместо слов, обращённых к нему, послышалось их ликующее пение, и те цветы, что ещё не получили имён, присоединили к ним свои мелодичные голоса, сорадуясь.
Так Доминик, омываемый этой живой музыкой, едва продвигаясь, парил в цветах – и вдруг обнаружил поляну.
Это был идеально круглый маленький холм. Здесь не росли ни цветы, ни травы, потому что всё округлое тело холма покрывали серые полупрозрачные камни. Доминик улыбнулся: камни своей формой напоминали ему детские кубики; среди них были и шаровидные, но всё же больше квази-кирпичиков с зализанными углами и гранями. Он приблизился и взял в руки один. И тотчас же его охватило удовольствие от ощущения тяжести предмета вполне реального мира. Какое-то время он качал камень в руках, наслаждаясь его твёрдой и прохладной весомостью. Потом присел и, расчистив вершину холма, выложил на ней каменный круг. Некоторое время он «ходил» возле получившегося кольца изумляясь тому, что оно вышло идеально круглым, словно отчерченным циркулем. А спустя минуту ещё одно чудо облило тёплой волной его сердце: он увидел, что камни словно приросли друг к дружке, «склеились», и теперь на вершине холма покоилось ровное цельнолитое кольцо. Тогда, войдя внутрь, Доминик выложил на нём новое, и ещё одно, и ещё. Подняв цилиндр башенки на уровень пояса, он перестал дотягиваться до камней в наружном пространстве, и вознамерился выйти из внутренней полости башенки. И тотчас это желание потянуло его вверх, и он поднялся на высоту своего роста. Изумлённый новой своей способностью, он «взлетел» ещё выше, и границы горизонта метнулись вдаль, и пространство его чудесной страны зримо увеличилось. Стали видны бледные пятна каменистых холмов, и Доминик радостно засмеялся, увидев, откуда он станет приносить камни, когда они закончатся возле его башни.