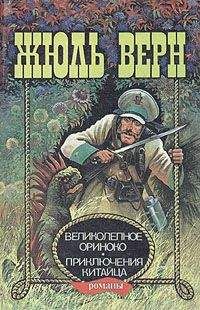— Пойду добровольно, но, как Бог свят, вы об этом пожалеете!
— Вот это речь настоящего дворянина, — одобрил начальник. — Пошли!
Так и сделали.
В подвальном узилище, куда ввергли обоих без всякого предварительного допроса — ибо час был поздним и чиновники магистратуры давно покинули свои кабинеты, — Вальдштейн сохранял спокойствие, и, насколько можно было разглядеть в свете ночного неба, проникавшего в камеру, лицо его снова приняло то, уже описанное нами, вальдштейновское выражение равнодушия и невозмутимой самоуверенности, причем его чуть приоткрытые гордые губы словно говорили: «Да, это по мне, это делается по моим планам». Но когда в вечерней тиши колокола отбили десять часов, он вдруг разразился судорожным смехом, в котором не было ни капли веселья, ибо смех этот граничил с рыданием; смеясь так, он растянулся на нарах.
— Склад тряпья! — воскликнул он. — Тряпичный склад ценой в двадцать золотых, подожженный вами, сорвал величайшее предприятие со времен перехода Цезаря через Рубикон! Будьте вы прокляты, Кукань, будьте прокляты и молитесь Богу, чтоб он отдалил момент, когда я буду в состоянии отплатить вам!
Петр, сидевший на низенькой табуретке, прикрепленной к стене цепью — чтобы узник не мог воспользоваться ею как оружием, — ответил:
— Такие угрозы привычны мне. Турки, среди которых я прожил некоторое время, умеют куда сочнее формулировать мысль, высказанную вами сейчас. Читайте Макиавелли: пожар на складе тряпья есть одна из тех случайностей, о которых он говорит в своем трактате «О заговоре» и с которыми обязан считаться любой заговорщик; чтоб не быть постигнутым такой случайностью, он поступит хорошо, если будет действовать в высшей степени осторожно — чего, однако, как правило, не наблюдается. Наши поступки, добавлю я, куда меньше зависят от силы нашей воли, чем от слабости нашего воображения и от нашей неспособности предвидеть последствия собственных решений, так что мы раз за разом допускаем промахи и ошибки, и они тем тяжелее, чем серьезнее наши цели. А ведь заговор, господин герцог, бесспорно вещь куда как серьезная.
— Нет тут никакого заговора, — возразил Вальдштейн. — Я просто стремился восстановить свое достоинство и укрепить свою власть, которой меня собирались лишить. Но пусть так, не будем спорить о словах. В чем же я, по-вашему, допустил ошибку?
— В том, что не зарегистрировались в ратуше. Под вымышленным именем, разумеется. И не запаслись документами на это имя.
— Человеческий разум — инструмент, удивительно приспособленный к тому, чтобы понимать и распознавать все, что надо было сделать, но чего не сделали — понимать, когда уже поздно. К сожалению, он не в состоянии столь же безошибочно подсказывать нам, что делать, когда мы только готовимся к действию. По-вашему, я сорвал свое предприятие тем, что не записался в ратуше, скажем, под фамилией Франц Мюллер, отставной цирюльник, и что у меня не было соответствующих бумаг. — Даже в окружавшей их темноте заметно было, как Вальдштейн усмехнулся такому предположению. — Это, утверждаете вы, была непростительная небрежность с моей стороны. Но так ли это? Полагаете, все эти люди, нахлынувшие в Регенсбург необозримыми ордами, аккуратненько зарегистрировались в ратуше? Да если б они так поступили, стояли бы в очередях на запись до конца сейма!
— Записались, конечно, не все. Но в отличие от вас, прибегая к вашему же сравнению, они не собирались переходить Рубикон.
— Ладно, туше [55], — сказал Вальдштейн. — Однако это не мешает мне припомнить случай с недоброй памяти Томасом Мюнцером, который лишился головы по прямо противоположной причине: удирая переодетым после разгрома крестьянских войск под Франкенхаузеном, он возбудил подозрение властей именно тем, что, в отличие от прочих беглецов, имел бумаги в полном порядке. Разумом можно доказать любое за и против. Разумом пускай руководится крестьянин, покупая клочок земли. Я руковожусь полетом своей фантазии и страстями.
— А также, насколько мне известно, указаниями звезд.
— Это связано с тем, что я сказал, ибо указания звезд абсолютно иррациональны, — возразил герцог. — Зная, что расположение звезд благоприятно мне, я могу дать волю моей интуиции и действовать так, как, если судить благоразумно, никто не ждет; в этом, помимо прочего, еще и та выгода, что я таким образом становлюсь на путь, где никто не может поставить мне преграду.
Вальдштейн вытянулся на нарах, заложив ладони под голову.
— Ох, до чего жестко проклятое ложе, — вздохнул он. — В детстве я видел однажды так называемый вещий сон: будто вербы, в тени которых я отдыхал, кланяются мне. Всякий другой, проснувшись, и думать бы забыл об этом сне, а я сохранил его в памяти — и черпал в нем силы и уверенность в самые тяжелые часы. Не удивительно, что и сейчас он мне вспомнился. В молодости, когда я учился в Альтдорфе, я как-то побил палкой своего слугу — он меня обворовывал, клеветал на меня, а в довершение всего я застал его in flagranti [56] с некоей дамочкой, на которую сам точил свои молодые зубы. Негодяю, правда, досталось больше, чем следовало, но все же недостаточно, чтоб он мог утверждать — а он утверждал это, — будто я забил его чуть не до смерти. Тогда, по юношеской неопытности, я думал, что этот неприятный эпизод навеки закроет мне путь в общество, а вышло прямо противоположное: своей мнимой жестокостью я приобрел всеобщее уважение и репутацию человека, с которым шутки плохи, каковой пользуюсь и до сего дня, потому что люди в большинстве трусливы и низки и уважают тех, кого боятся. То был поучительный урок — не столько моему негодному слуге, сколько мне самому. Впрочем, тогда я еще ничего не знал о звездах, хотя не сомневаюсь — в момент, когда я наказывал слугу, звезды были благосклонны ко мне. Позже я перестал полагаться на случай, и если звездное небо обращает ко мне угрожающий лик, я отхожу в сторону и не предпринимаю ничего. Зато при благоприятной констелляции даю волю своей интуиции и совершаю то, что поражает сердца изумленного мира.
— Да уж, — отозвался Петр, — мир куда как изумился бы, узнав, что герцог Альбрехт Вальдштейн сидит в кутузке.
Герцог поднялся, сел на нарах.
— На этих треклятых досках невозможно лежать, — сказал он. — Действительно, мир удивился бы, увидев меня здесь, да я и сам этому дивлюсь, ибо как раз сейчас звезды расположены так благоприятно для меня, как давно не было. Ошибки быть не может — Кеплер и Сени оба получили один и тот же результат. Сени, возможно, и проявляет иной раз склонность к шарлатанству, но Кеплер, сударь, Кеплер — сама солидность. Я ничего не понимаю и только с любопытством жду, что воспоследует. Впрочем, я совершенно спокоен. Звезды видят дальше, чем может проникнуть наш взор. Мы связаны сложно переплетенными цепями и способны видеть лишь отдельные звенья. Я был уверен в выигрыше — и вот сижу в этой дыре, и меня кусают клопы. Стало быть, мой выигрыш состоит в том, чтобы меня арестовали. Только будущее покажет, какую это принесет мне выгоду.