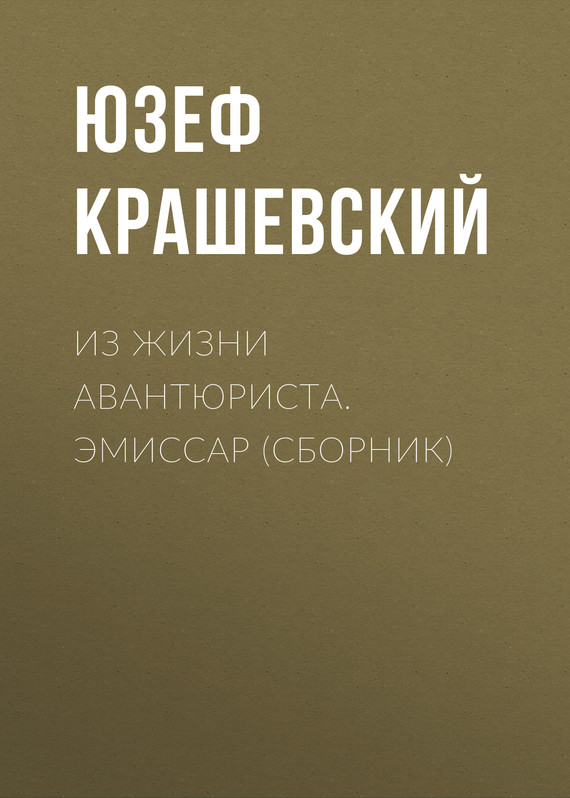напечатанные, но ксилографированные, то есть вырезанные на дереве, как редчайшее старое вечное издание… Весь класс ремесленников с прапрадедов занимается этим бесформенным вырезанием резьбы на дереве и книжечек, и обтёсыванием их в тончайшие листы, какие себе приготовить может. В течении долгого времени эта литература, хотя очень лояльная, но могущая иметь неожиданные выходки, уходила от внимания цензуры, которая её не контролировала… спохватились потом, что там часто речь о царях и царевичах… и что следует взглянуть, как это там делается. Сдали, поэтому, всесильному комитету и коробковую литературу.
Ванька как раз читал о гигантском Обре и семи царевичах, которые по очереди выбирались против него, когда среди весьма занимательного чтения… открылись двери с необычайным грохотом, позволяющим догадываться о ранге полковника (потому что каждый чин (ранг) иначе открывает двери), – и показалось лицо Пратулца, зарумяненное, неизвестно, от сильной ли водки, или от острого ветра, или от сильной водки с острым ветром.
– Господин дома?
– Дома, но отдыхает, – сказал тихо Ванька, примером своим уча гостя, чтобы уважал праведный сон.
– Отдыхает! Что ещё!
Пратулец хотел прямо войти, но Ванька его остановил, широкой грудью охраняя отдых дорогого своего господина.
– Прошу прощения ясно пана (соответственно по-русски высоко рождённого)… но когда нельзя, то нельзя.
– Дорогой, ты глупец, – отвечал медленно Пратулец. – Нельзя, если кто придёт с пустым делом, не имея что делать, а у меня важное дело.
– Но господин меня потом побьёт!
– Если бы и побил – когда дело важное! Правительственное… царское… А я ручаюсь, что тебе ничего не будет, пусти.
Ванька между царём и справником колебался ещё, потому что царь был далеко, а справник за дверью, когда из другого покоя послышался хриплый голос Шувалы:
– Чтоб тебя… Ванька, кого там уже лихо несёт? Я только задремал.
– Меня, меня, – воскликнул, отпихивая слугу, Пратулец, – но ошибаешься, потому что не дьяволы несут.
Приятель вошёл без церемонии. Шувала лежал ещё на канапе, на кожаной подушке, и протирал заспанные глаза.
– Ванька, – закричал он живо, не приветствуя, – скажи панне Каролине, чтобы сделала нам пунш… но морской, как она умеет.
– Ну, ну, я к тебе не на пунш пришёл, – отозвался сидящий приятель, – я пришёл сюда с важным делом.
Шувала зевал ещё.
– Что за важное дело? Хочешь уже кого-то из Ольшова ободрать? Гм?
– Нет… увидишь, – сказал Пратулец, – но сперва поговорим по-людски… рука руку моет…
Справник поглядел.
– Если мне удасться тебе этого негодяя Павла Зенчевского дать в руки… что за эту штуку?
Так вопрошаемый полковник недоверчиво поглядел.
– Уже мне его так давали не раз… но ба! Он давно умыкнул отсюда… должно быть за границей…
– А что мне дашь? – повторил Пратулец.
– Что я тебе дам? За что?
– Ну… по справедливости… ты снова получишь или крест, или ранг, или деньги… а что я?
– Что мне тебе дать? Представлю тебя к награде как доносчика… Но это не может быть.
Пратулец спрятал руки в карманы.
– Это своей дорогой, что правительство заплатит, – сказал он, – а с тебя я также должен взять… не может быть иначе. Ты знаешь, что я твой друг, но бесплатно не дам. Мне всё одно, сам ли ты его возьмёшь, или участковый асессор. Поеду к асессору и возьмём его вдвоём, а он мне, несомненно, заплатит.
– Ну, тогда бери! Где же он?
– Где? Ты мудрый! Говори что дашь, – сказал, смеясь, Пратулец, – дружба – хорошая вещь, но ни с поклона шубы не сошьёшь, ни с поцелуев.
– Что же мне дать тебе? Еврей ты! – воскликнул справник.
– Еврей! Менее того… потому что приятели… Но всё-таки ты взял буланого рысака у полицмейстера, чтобы его не убивать.
– Это его ты хочешь у меня отобрать?
– Нет, не обязательно… что мне от одного рысака?
– Не достаточно тебе этого! Ну, как мне не говорить, что ты еврей… стыдился бы.
– Чего мне стыдиться! Я тебе даю гораздо больше, чем ты мне можешь дать.
– Ну, говори, чего хочешь… и не мучай уже дольше! – крикнул, теряя терпение, Шувала. – Ты сюда уже с надуманной вещью прибыл.
– Конечно! – ответил спокойно Пратулец. – Думаешь, что я около этого не ходил, не топтался… не намучился, неделю сидя в Ольшове?
– Вот оно что! Значит, он в Ольшове… возьму его и без тебя, – рассмеялся справник.
– Тогда бери его, – холодно сказал Пратулец, вставая со стула, – хорошо… больше не скажу ничего.
– Э! Ты нехороший! – мягко сказал Шувала, подавая ему руку. – Разве мы не старые друзья… Дам, что хочешь, если смогу.
– Я много не хочу… пару карих коней… денег не желаю…
– Смилуйся… они мои самые лучшие…
– Разве я хотел бы их, если бы плохими были! – засмеялся Пратулец, потирая руки. – Хо! Хо! Доброе дело и добрые кони!
– Ну… дам, дам…
– Слово?
– Слово…
Пожали друг другу руки.
Панна Каролина, крещённая еврейка, родом из Олыки, внесла, улыбаясь, пунш на подносе. Была это хозяйка полковника, особа живая, с чёрными глазками, очень красивая, чрезвычайно смелая и до крайности кокетливая… не говоря больше, потому что нельзя. В городе в шутку прозывали её полковниковой и справниковой, и она серьёзно, может, надеялась, что ей когда-нибудь станет.
Согласно обычаю, она ожидала приветствия шуточками, любезностями, но Шувала приказал поставить пунш и тихонько от неё отделался. Вышла грустная – а если бы предчувствовала, что карие кони, на которых иногда ездила, должны были у неё забрать… Шувала закрыл дверь.
– Говори же, – настойчиво сказал он приятелю, – этот негодный человек много мне пота и крови стоит, пусть порадуюсь, когда на виселицу пойдёт или под кнуты.
– Слушай, – отвечал вольно, попивая горячий пунш Пратулец, – ты не ошибся, догадываясь, что он в Ольшове, но и так бы его без меня не добыл… Сказать по правде… дьявол бы угадал, что этот наглец смеет скрываться тут же под поветовым местечком, в деревне, где отец его жил, где его все знают… под боком земской полиции. Ну! Ловкий дьявол.
Ты знаешь, что я имею часть в Ольшове… знаю там их панов и холопов всех издавна. Мой арендатор начал мне фигли плести, счеты подавать… я поехал, чтобы выбросить его вон, потому что контракта не имеет. Но и я неглупый и осторожный… я знал, что так нужно будет кончить. Ещё мне угрожал жалобой! Э! Это уже слишком, так я его прочь с детьми, с интерьером приказал на улицу вытащить… Жалуйся теперь!
Как арендатора не стало, нужно было какой-то порядок навести в Ольшове, потому что уже с другим арендатором не будет легко; я должен был остаться на земле. Цезарская скука!! Не имея что делать, я ещё ближе сошёлся с холопами, с попами, с арендаторами. На деревне. Холопы между собой ссорятся и грызутся, один на другого мне жалуется, потому что знают, что я с полицией одна рука.
Однажды вечером приходит ко мне поп. Ты знаешь, что я рясы и локоны не люблю – так как народ паскудный