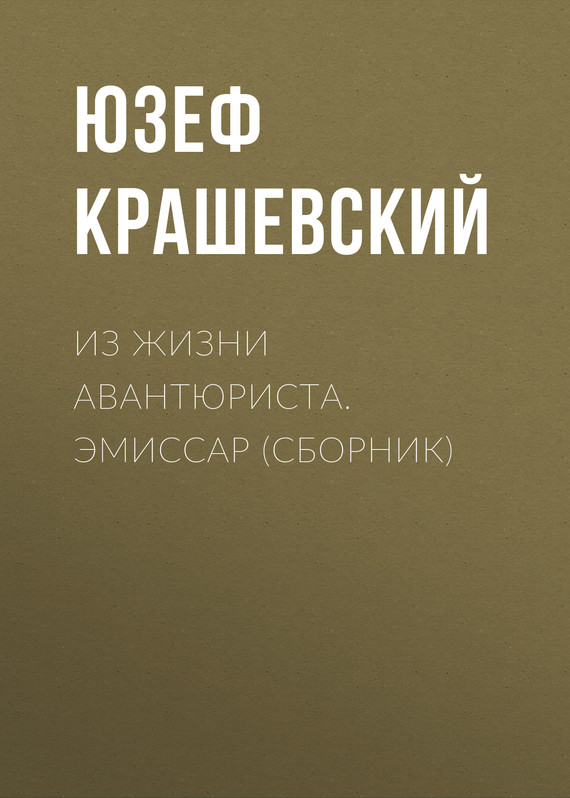пол… но револьвер держал ещё какое-то время поднятым.
– Не хочу пятнать себя твоей недостойной кровью, – воскликнул он, опуская оружие. – Живи! Посмотрю, как ты исполнишь свою торжественную присягу, что спасла тебе жизнь. Но помни! Ежели нарушишь эту клятву, ежели у людей, вмешанных в моё дело, волос упадёт с головы… ежели посмеешь преследовать Радищев… хоть бы я должен был погибнуть… найдётся кто-нибудь… кто тебе голову прострелит, не я – то другой… помни!
Когда полковник собирался подняться с пола, поглядывая ещё неуверенным взглядом на Павла, глухой гул дошёл до его ушей, он узнал, а скорее догадался о своих людях, прибывших со сломанной бричкой… дело, может, шло об одной минуте, чтобы эмиссар был схвачен и месть выполнена… клятва его не удерживала… начал благодарить, чтобы не дать ему ещё уйти, потом что Павел укутывался плащом.
Не расслышал он шума, но, бросив взгляд на испуганного ещё, пытающегося подняться на ноги, ничего не говоря, он бросил его в алькове, а сам, не выпуская из рук револьвера, медленно вышел, захлопывая за собой дверь.
На пороге только бросил ему одно последнее слово: «Помни!»
Шувала вздохнул, чувствуя себя словно чудом спасшимся, вся дерзость вернулась к нему вместе с гневом, который вырывался из него несдерживаемый; пошёл он к двери, дрожащий, прикладывая к ней ухо, выждал, пока Павел отойдёт на несколько шагов, потом, услышав восклицание Ваньки, который входил в корчму, захваченный яростью, выбежал из алькова, крича:
– Хватай! Хватайте!
Ещё во второй раз не повторил он этого слова, когда из мрака блеснул выстрел, и Шувала, раненый в плечо, зашатался и упал, пачкаясь кровью, в дверях, торопя людей: «Хватайте его!»
Но Павел с револьвером в руке, неустрашимый, медленно прошёл среди испуганных людей… и прежде чем осмелились покуситься на него, исчез среди леса.
* * *
Последствия этих событий даже слишком громкими стали во всём повете. Справника отвезли в Луцк, а штафету рапорта послали в Киев и Житомир. Тут же приехала назначенная комиссия, полковник жандармов, аудитор и т. д.; прислали из Дулма отряд пехоты в помощь полиции и инвалидов, приказали в лесной части повета расставить общие облавы… тревога охватила жителей.
Шувала был только легко ранен; получил он себе таким образом новую декорацию, которую желал, и денежную награду, а вскоре, вылечившись от раны, с удвоенным рвением, с яростью, хоть руку ещё носил на перевязи, выехал снова в повет преследовать эмиссара.
Напрасно более рассудительные люди ему представляли, что он не мог уже дольше скрываться в этом повете, в котором его так разыскивали, что давно должен был перейти в пинские или ковелские леса, либо соучастниками был вывезен за австрийскую границу, не слишком отдалённую, а до приёма достаточно лёгкую. Шувала настаивал на неутомимом преследовании неприятеля, объясняясь каким-то предчувствием, что схватит его.
Богато оплаченная рана, казалось, в конечном итоге избавит его от всяких прошлых обязательств, потому что и подсудка, несмотря на данное обещание, велел привезти в местечко, и множество других особ примешал к следствию, под разными предлогами.
Был это слишком вкусный и лакомый счастливый случай, чтобы ловкий человек им не воспользовался, насколько получится.
Тюрьмы заполнили духовными, гражданскими, шляхтой, евреями, осадниками, живущими в лесах… в монастырях забрали женщин из келий, потому что и те от следствия не были освобождены.
Комиссии на земле, съезды, дознания, протоколы, ревизии не имели конца. Пьяная земская полиция ездила от двора к двору грабить.
Но, несмотря на эти облавы, поиски стражей, назначенную правительством денежную награду, ни малейшего следа эмиссара с его побега из корчмы выследить было невозможно, как в воду канул.
Подсудок Ягловский, которого, несмотря на заверения справника, привезли в Луцк и под стражей, как больного, поместили тем временем в военный лазарет, сидел в нём уже две неделе. Его дочку и тётю Изабеллу до сих пор не взяли, но и им уделили ту приятную новость, что должны будут предстать перед следствием.
Панна Целина, опережая это официальное воззвание, с целю стараться вызволить из камеры отца и поставить его дело на хорошую стопу, сдала хозяйство экономам, а сама, собрав деньги, сколько только могла, прибыла в местечко. С великими проблемами, усилиями и с немалой каждодневной оплатой она дошла до того, что могла по крайней мере вечерами видеть отца.
Несмотря на достаточно опасное положение, потому что Ягловский заранее знал, что в самом лучшем случае мог надеяться на изгнание в глубь России, ни он, ни дочка не утратили мужества. Ягловский страдал, что не с кем было играть в вист. Целина, казалось, только среди этих противоречий приобретала стойкость духа и охоту к жизни… Он был равнодушным, шутил едко над всем, а, может, делал это, чтобы дорогому ребёнку добавить силы и отваги, и скрыть внутреннее беспокойство. Оба утешались тем, что несчастного приговорённого не схватили. Ягловский больше всего жаловался на жадность урядников и трату денег, которая была очень значительна. В таких случаях московская жадность не знает меры. Они знают, что при общем беззаконии каждый из них держит жизнь и судьбу обвиняемого в руках, поэтому торгуются о них с цинизмом палачей без сердца. Оправданный выходит живым, но, правда, раздетым до рубашки. Подсудок, говоря о том, обычно добавлял:
– Но пусть их там дьяволы возьмут, чтобы по крайней мере было с кем играть в вист вечером. Каббала мне уже наскучила.
Целина, дабы быть ближе к военному лазарету, в котором сидел отец, наняла себе жильё в предместье в маленькой усадебке, одну сторону которой занимала она с тёткой, владельцем другой был старый луцкий мещанин, кожевенник Масланка.
Уже была очень поздняя осень, маленькие заморозки с утра уже объявляли надвигающуюся сюда зиму, желанную для мещан всяким образом, потому что должна была осушить улицы и привоз продовольствия сделать более лёгким.
Панна Целина сидела однажды вечером с книжкой у столика, потому что был день, в который к отцу пойти не могла, когда в дверь слегка постучали. Вскоре потом осторожно вошёл, медленно оглядываясь, холоп в сермяжке, коего сначала приняла за посланца с Радищева. Она подошла к нему, но какого было её удивление и вместе с тем тревога, когда, всматриваясь в молчащего до сих пор человека, узнала в нём… так хорошо спрятанные в памяти черты несчастного эмиссара.
Он стоял перед ней молчаливый, смешанный, изучающе глядя в глаза. В первый момент не хватало ей слов, уста задрожали, она заломила руки, отступая.
– Вы тут! Тут! Где вас преследуют и ищут… когда за вашу голову назначили цену. О Боже мой! Боже мой! А я утешалась уже той надеждой, что ты ушёл от них, что в безопасности, за границей…
Павел вздохнул.
– Дорогая пани, – сказал он тихо, опуская глаза, как