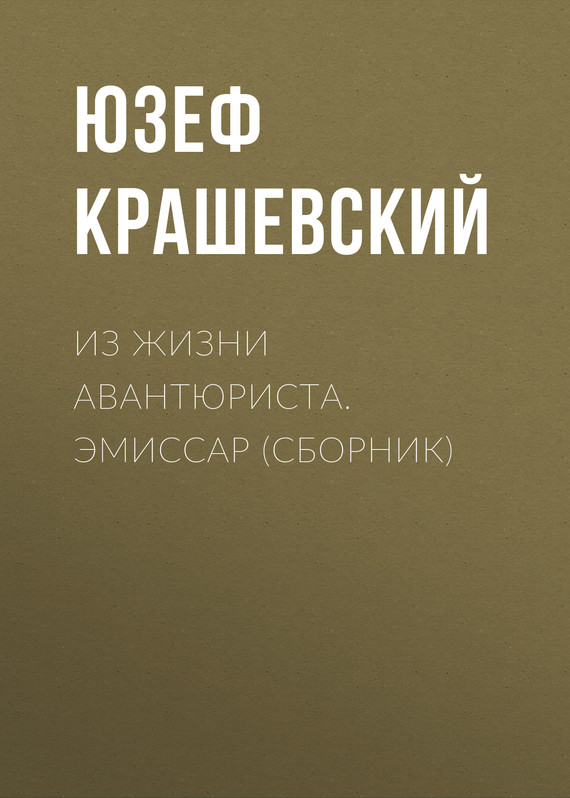виноватый, – я, может, смог бы выбраться из этой неволи, но долг, который я возложил на себя, не допускал… Миссия невыполнена… другие в большей, чем я, опасности, и ждут помощи. Я должен остаться, чтобы других предостеречь, спасти, помочь и святому делу служить. Свою жизнь я давно положил на её жертву… погибну так погибну…
Целина с выражением мольбы и самого горячего сочувствия схватила его за руку – но Павел, улыбаясь, словно устыдившись, отодвинул её.
– А! Пани, моя ладонь не стоит. Если бы вы её коснулись…
она грязная и вспотевшая от работы… рука холопская. Могли бы по ней меня узнать, если бы была белой и мягкой.
– Но я бы её поцеловала, – прервала с огнём Целина, – потому что это рука святая… настоящего мученика за родину.
Павел возмутился.
– А! Панна Целина, – воскликнул он, – не годится так людям кружить головы. Я ещё ничего не доделал… стыжусь, что страдал слишком мало. А если бы исполнение долга требовало награды, ваши слова оплатили бы и мученическую смерть.
Целина покраснела.
– Это слово из моих уст, – добавила она грустно и тихо, – что для тебя стоит слово этих уст… чувство этого сердца и горячая просьба… всё-таки я умоляю тебя напрасно, не напрашивайся больше на опасность, уходи.
– О пани, – воскликнул Павел, – ты сама бы меня презирала, если бы я это сделал. Я не стоил бы твоего сочувствия. Всё-таки это слово должно быть самым приятным, самым дорогим… когда сюда аж пробрался, дабы его услышать.
Последнее слово он тихо прошептал.
В глазах Целины показались слёзы, она ещё больше смешалась, зарумянилась, но вскоре снова ударило сердце, и она схватила мозолистую руку Павла.
– Пане! Ради меня… спаси себя… умоляю. Тебя ищут, знают… ты не можешь ничего сделать. Слушай, меня никто совсем не подозревает, я женщина, я клянусь тебе: поеду, исполню, отдам… сделаю что мне прикажешь… Позволь мне заменить тебя, я буду счастлива… вдвойне… Ничего со мной не будет, буду осторожной, хитрой, увидишь! Я обману их, найду в себе силу, пытки не добьются от меня слова. Прошу тебя… не губи меня, губя себя.
Говоря это, она закрыла глаза.
– Целина! Пани! – воскликнул Павел, падая на колени. – Встаю на колени, чтобы благодарить тебя за твой героизм и за слово, которое дало мне единственную в жизни счастливую минуту. Я сделал бы, что хочешь, если бы мог, и не был связан клятвой, словом, доверием соратников… Кто же знает? Богу, может, захочется спасти меня, чтобы служить тебе вечно, а если мне предназначено умереть, ты сохранишь одну память о незнакомой жертве. Ещё раз перед той чёрной пропастью, которая скрывает моё будущее, я хотел тебя видеть и признаться, как на исповеди, что ты очаровала меня… что из-за тебя чуть не ослаб в служении родине… что я любил тебя и обожал, и что после смерти мой дух останется при тебе. Целина расплакалась… замолчали.
– Нет, мой Павел, – сказала она дрожащим голосом через минуту, вытирая слёзы, – Бог не жесток… ты должен быть спасённым, потому что заслужил это своей жертвой.
Говоря это, она подала ему руку, Павел приложил к ней горячие уста. Целина нагнулась. Затем тётя Изабелла с «Золотым алтариком» в руке, с очками на носу, услышав шорох в первой комнате, вышла на цыпочках взглянуть, что там делалось. И онемела, поглядев на парня… простого холопа в кожухе и сермяге, который целовал руку Целине. Это было бы ещё ничего, но, может быть, сквозь эти очки – фальшиво или от страха – бедной тёте предвиделось, что сблизились их лица и уста… что этот холоп смел поцеловать панну подсудковну.
При виде такого ужаса у тёти Изабеллы из дрожащих рук выпал «Золотой алтарик», очки скатились на пол, разбиваясь на мелкие кусочки… она крикнула и бесспорно потеряла бы сознание, но, к счастью, канапе поблизости не было, не было стула, на который бы могла упасть, опёрлась только о раму, крича:
– О… раны Христовы!
Этот писклявый крик мог всех слуг со всего дома созвать, притянуть жителей. Целина с испугом дала знак рукой Павлу, чтобы уходил, а сама как можно быстрей побежала к тётке, схватив кёльнскую водичку.
– Ради Бога, тётя, ежели тебе мила моя жизнь… не говори что видела! Заклинаю… молчи! Тут не было никого! Никого!
Вскоре к Целине подбежали из гардероба две служанки, но панна им быстро объяснила, что тётя, идя через тёмный покой, ушибла больную ногу (так из уважения называли её мозоли).
Таким образом скоро всё в доме успокоилось… служанки ушли, панна Изабелла села на канапе… а Цесия с кёльнской водичкой, бобровой эссенцией и лавровыми каплями около неё суетилась. Однако лучше этих медикаментов подействовало бы открытие страшной тайны, которую доверить тёте было невозможно. Тётя, лучшая особа на свете, всего боялась и не умела удержать секрета ни на минуту.
– Но что же это было? Что это было, моя дорогая? Смилуйся, скажи мне, успокой меня. Я своими глазами видела, как ты приблизила уста к его лицу. Кто бы это мог быть, что бы имел право, что бы смел… Цеси! Это что-то ужасное… признайся во всём, я не скажу никому… Холоп! Уж это не мог быть настоящий холоп.
– Дорогая тётя, успокойся! Не могу тебе открыть тайны, которая не является моей, – отвечала Целина, – но могу тебе поклясться, что он один или никто будет иметь мою руку, потому что имеет моё сердце.
Панна Изабелла заломила руки.
– Иисус Христос! Раны Господни! Что я слышу! Это выглядит, как французский роман… это ни на что непохоже… интрига… сукмана… в моей голове не может поместиться… И ты, Цесия…
– Тётя, не спрашивай ни о чём, а верь мне, – прервала Целина, – не спрашивай, потому что погубишь, и не подозревай о плохом, так как я чистая и невинная.
– Но отец, отец в тюрьме, а ты…
Цесия, вздыхая, опустила глаза.
– Да, в том есть вина, – сказала она, – но это произошло не по моей воле. Не могу тебе сейчас открыть этой тайны, была молитва на Преображение Господне…
Назавтра в серый вечерний час справник Шувала, вернувшись с обеда, который давали для него добрые коллеги, поздравляя его с Владимиром на шее, лёг спать. Шампанское вино, которое он очень любил, всегда делало его сонным. Ванька имел общие, вечные, раз навсегда данные ему распоряжения, чтобы во время панского сна никого не допускал.
Теперь, как обычно в подобных случаях, сидел он на часах в прихожей и развевал скуку чтением одной из тех книжек, украшенных резьбой по дереву, которые представляют единственную оригинальную московскую литературу, называемую коробковой, потому что её по стране в лубяных коробках разносят торговцы.
Известно, что эти уважаемые народом повести, подчерпнутые из его преданий, даже не