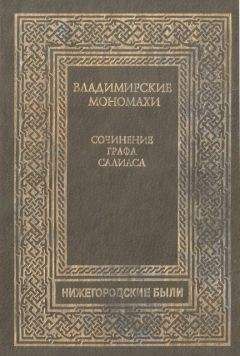– А что, если бы я это сделала? – тем же шутливым тоном, будто подлаживаясь под голос мужа, вымолвила Алина. – Что бы ты сказал, если бы я тайно бежала от тебя, бросила бы тебя и начала бы ту жизнь, о которой ты говоришь? Что бы тогда ты сделал?
– Зачем беседовать, – вдруг другим голосом вымолвил Шель, – о таких глупых вещах, даже гнусных? Это уже переходит за пределы шутки и нисколько не остроумно.
– Нет, пожалуйста, – шутливо и капризно приставала Алина, обнимая и целуя мужа, – подумай и скажи мне, как бы ты поступил, если бы я вдруг от скуки и праздности тайно убежала от тебя и начала бы мою прежнюю скитальческую жизнь, но только с той разницей, что я вела бы себя самым бесчестным, безнравственным образом?
– Повторяю тебе, что этот разговор мне тяжел и я не желаю продолжать его.
– Вот, видишь, как ты упрям, – ты не хочешь сказать мне только несколько слов, сказать, например, что ты бросился бы искать меня и убил бы или отнесся бы ко мне с презрением и даже не двинулся бы за мной вслед. Я думаю, что ты убил бы меня.
– Нет, на это я не способен; я слишком рабски влюблен в тебя. Уничтожить собственными руками свой идеал – невозможно, но убить всякого, кто оскверняет это божество, конечно, долг всякого честного и сильно чувствующего человека. Но прекратим этот ужасный разговор. Подумаем лучше о том, что сделать, чтобы тебе не было опять скучно, чтобы тоска не тянула тебя, не манила в прежнюю обстановку странствующей музыкантши.
– Надо подумать, – весело отозвалась Алина, – теперь я ничего придумать не могу. А между тем это необходимо, потому что мне кажется, что я двух недель не выживу на нашей вилле среди этих скучных холмов, покрытых густым ельником, и с этой глупой полосой реки, где только изредка проходят лодки рыбаков или барки судопромышленников. Подумай об этом хорошенько сам, но все-таки прежде скажи мне, решился ли бы ты хотя на временную разлуку со мной? Мог ли бы ты хотя на время позволить мне отлучиться из дома на месяц, на три, с целью по-прежнему давать концерты, жить этой цыганской жизнью и возвращаться домой для того только, чтобы отдыхать?
– Никогда, вовеки никогда! Ты с ума сходишь! – воскликнул Шель. – Разве можно говорить подобное таким серьезным голосом? Неужели ты не шутишь, Алина?
Она рассмеялась, обняла мужа, и на лице ее была написана какая-то необъяснимая радость.
Генриху показалось, что она затеяла весь этот разговор только затем, чтобы убедиться, насколько он любит ее, и это предположение переполнило счастьем и отрадой его намучившееся сердце.
– Который час? – спросила вдруг Алина.
– Уже три часа ночи, пора и заснуть.
– Три часа, – повторила Алина. – Три часа! Стало быть, остается еще семь.
– Как остается?
– Да, остается еще семь: в десять я должна выйти из дома.
– Куда? Неужели опять в магазины?
– Нет, по очень важному делу, на край света.
– Вот как! Говорят, там очень страшно, на краю света, – невольно начал шутливо Генрих. – Говорят, что там живут такие чудовища, от одного вида которых человек умирает или обращается в камень. Так вот ты куда!
– Да, погибнуть из чувства любопытства или, лучше сказать, из чувства любознательности, из желания узнать и изведать все, что только можно изведать в этом мире… Это хорошая смерть.
– Что ты говоришь? Я не понимаю.
– Знаешь ли ты, – продолжала Алина, как бы разговаривая сама с собою, – первая женщина, погубившая себя и весь род человеческий из-за любопытства, была наша праматерь Ева, но ее искушал дьявол. Вторая женщина, погибшая тоже от любопытства, от желания узнать, что творится за ней в том человеческом мире, откуда ее спасла рука мужа или веление Божие, была жена Лота. Может быть, было много и других исторических или легендарных женщин, погибших из-за любознательности, которая, говорят, есть главная, основная черта женской природы. Но я не знаю имен их. Однако я знаю и могу назвать третью женщину, которая погибнет, будет жертвой своего любопытства, своей жажды изведать все, которая хочет выпить чашу жизни до дна, зная что в последней капле заключается смерть. Хочешь ли ты знать, кто эта женщина? Ее зовут Людовика Краковская.
– Кто же она такая? Какая-нибудь прежняя твоя знакомая или приятельница?
– Да, это личность не такая, как те женщины, которых так много в твоей среде, хотя бы в Дрездене. Людовика Краковская иного характера: то, что для других было бы смертью, для нее – жизнь.
– Ты мне никогда не говорила о ней ни слова, – заметил Генрих.
– Не знаю, может быть. Может быть, я называла ее как-нибудь иначе, так как Людовика – имя, данное ей отцом в память матери, умершей при ее рождении. Настоящее же имя ее, данное при крещении, было другое; я не помню его хорошенько… вдобавок, и фамилия Краковского была тоже – вымышленное имя богатого польского магната. Следовательно, Людовика Краковская есть вымысел, есть обман; и имя, и фамилия присвоены незаконно, и она, в сущности, была и осталась бродягой без рода и племени, без имени и прозвища; существо, поставленное людским законом ниже всех общественных ступеней. Но за то Провидение сжалилось над ней и дало ей сердце, волю и разные дары природы, которые когда-нибудь поставят ее на высшие ступени этой общественной иерархии. В этом я не сомневаюсь. У нее судьба отняла многое, но она объявила войну чуть не всему человечеству и завоюет себе больше, чем отняли у нее люди.
Все это произнесла Алина нервно, страстно, с чувством, дрожащим голосом, и горящий взгляд ее был устремлен куда-то в пространство. Она будто забыла, где она находится, с кем говорит.
Когда она замолчала, Генрих повторил свой вопрос раза два.
– Что это за личность? Отчего ты мне никогда не говорила о ней, и отчего теперь вдруг эта Людовика Краковская пришла тебе на ум и даже воспоминание о ней взволновало тебя?
Но Алина ничего не отвечала; ее страстный порыв прошел; она снова улыбалась полукокетливо, полушутливо и весело и с вызовом смотрела в лицо мужа.
Когда в десять часов утра Генрих проснулся и осмотрелся, то не нашел Алины. Предполагая, что она в другой комнате, он позвал ее, но ответа не было.
Он вышел прямо с постели босиком в другую комнату взглянуть, лежит ли на своем обычном месте шляпка и пальто Алины, но ничего не было! Он вернулся и вспомнил, что Алина предупреждала его, что в десять часов ей нужно выйти, но куда – он старался вспомнить.
– Ах, да, она сказала: «На край света!» – И он улыбнулся.
Генрих спокойно оделся и вышел в гостиную. Лакей принес ему обычный утренний завтрак, но Генрих не притронулся ни к чему. Ему хотелось дождаться возвращения жены; быть может, и Дитрих явится, и тогда они вместе, как случалось всегда, весело позавтракают.