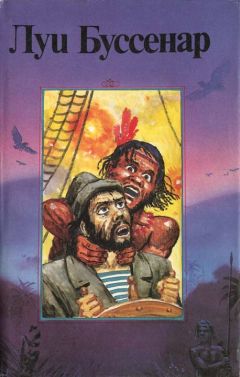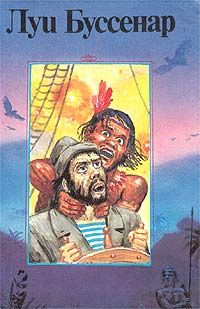Считается, что полные люди лучше переносят холод, чем худые, поскольку обладают постоянным источником подогрева.
И еще один потрясающий пример: верблюжьи горбы — запасы жира, позволяющие переносить самые невероятные лишения. К концу трудного, изнурительного пути горб сильно уменьшается и болтается, точно пустой бурдюк[49]. Запасы опустошены, подобно тендеру[50] локомотива, доведшего поезд до пункта назначения.
Как невозможно паровозу без угля, так нельзя живому организму без жира. Понятно?
— Еще бы! — хором воскликнули оба благодарных слушателя.
— Вот почему эскимосы, гренландцы, саамы и прочие обитатели холодных широт потребляют огромное количество жирной пищи. Зато на экваторе богатый выбор продуктов питания, от употребления которых не образуется веществ, сберегающих тепло.
— Дорогой доктор, нам ясна суть вашего чудесного изобретения.
— Чудесного? Гм-м! Да вы мне льстите.
— Дикари, без всякого сомнения, раз двадцать будут заставлять нас поглощать в огромных количествах вещества, лишние для организма.
— Надо воспользоваться открытием, и неиспользованный жир окажется выведенным из организма.
— И мы, таким образом, не пополнеем.
— Теперь я не смогу без смеха глядеть на пузо какого-нибудь богача, — проговорил Фрике, напустив на себя многозначительно-задумчивый вид.
— Значит, — вступил Андре вслед за репликой парижанина, — вы поглощаете кислород и выжигаете ненужный жир. Происходит нечто подобное тому, как если бы, при желании поскорее выжечь светильник, наполненный маслом, туда опустили двести фитилей вместо одного.
— Браво! Ваше сравнение превосходно! Из вас вышел бы прекрасный физиолог!
— Но послушайте, доктор, не проще ли засунуть два пальца в рот и опорожнить несчастный желудок… ну, как случается при морской болезни, хотя это чересчур примитивно.
— Ваш замысел неплох. Однако у проклятых дикарей ушки на макушке. Когда меня схватили, то первые три дня и три ночи выставляли не смыкавшую глаз стражу и прислушивались к малейшим звукам. Тогда-то я придумал эту систему, ее применение увенчалось полнейшим успехом, — завершил рассказ бесстрашный врач, демонстрируя истощенное тело пергаментного цвета.
— Мы согласны, — произнесли двое собеседников, — завтра употребим повышенную дозу кислорода. Ибо есть выбор: остаться живым или быть съеденным!
Чудесные приключения парижского гамена. — Ньюфаундленд[51] по необходимости, спасатель — в силу долга. — Театр «Сен-Мартен» в пароходном трюме. — Несколько тысяч лье в угольной яме. — Торговец человеческой плотью. — Лицом к лицу со слоном. — Светское общение с негодяем. — Опасные изыскания в теле Ибрагима. — Триумф доктора.
Пленники, еще сутки назад совершенно незнакомые, сейчас стали лучшими друзьями. Отныне само их существование зависело друг от друга.
Двое молодых с добрыми сердцами людей с момента, как встретились с доктором, безотчетно оказались преданы ему в силу психологического закона, гласящего: чем больше человек делает добра другому, тем больше его любит.
А доктор, в свою очередь, со всей искренностью ответил взаимностью, ибо оценил усилия, которые оба храбреца приложили для его спасения.
— По-моему, — произнес Фрике, — пора рассказать каждому о себе.
И поскольку дремота никак не торопилась сомкнуть им веки, трое друзей решили занять себя беседой: узнать подробности жизни каждого.
Англичан друг другу церемонно представляют. А трое французов тут же принялись сами рассказывать о своих приключениях.
Это желание поведать о странном переплетении событий, сведших вместе здесь, на экваторе, людей из одной страны, было вполне естественным.
Присутствие Андре, некоторое время исполнявшего обязанности управляющего одной африканской плантацией, пока не стал ее совладельцем, было все-таки закономерным. То же самое можно было бы сказать и о докторе.
Однако как Фрике, вольный парижский воробышек Фрике, принесший на своих подошвах пыль парижских предместий, оказался в далекой хижине, где его откармливают пальмовым маслом и сладким картофелем?
Это было весьма интересно знать двум его товарищам.
Гамен не заставил просить дважды.
— Моя история, — сказал он, — очень проста. Дитя Парижа, я не знал ни отца, ни матери. Припоминаю: у меня было и другое имя, а не только прозвище. Меня ведь, конечно, крестили, а лишь потом прозвали Фрике, что означает на парижском диалекте — воробышек.
Кажется, лет в семь или восемь я очутился в будочке папаши Шникмана, пожилого «глянцевателя обуви», иными словами, мастера по чистке и починке мужских и женских башмаков.
Тесная будочка сапожника постоянно была забита растоптанными, распоротыми, заношенными «обувками». В таких «хоромах» и прошло мое детство.
Папаша Шникман частенько накачивался спиртным, и тогда удары шпандыря[52] сыпались на меня градом. Но я терпел выпадавшие на мою долю побои.
За работу платили мало, едва хватало на хлеб. Что же до воды, то рядом был фонтан Уоллеса[53].
Иногда клиенты кидали пару су на чай, тогда удавалось купить и немного колбаски. То-то был праздник!
В обычное время я смолил дратву[54], отрывал подметки и выполнял мелкие поручения хозяина. Как я лез из кожи вон!..
Несколько лет все шло ни шатко ни валко. Я подбирал окурки, играл на бильярде и в «пробочки» около дворца.
— Какого дворца? — спросил Андре.
— Да, черт побери, Пале-Рояля![55] Другого там нет. Я понемногу привык выпивать по двести граммов вина, как пьют в кабаках на двоих. Но особенно этим не увлекался. Пел тирольские[56] песни, корчил рожи у витрин магазинов, а еще дрался с извозчиками; в общем, жил как обычный уличный оборванец.
А чего вы хотите? Я рос без отца, без матери… Не суждено мне иметь бедную старушку, которую бы любил от всего сердца, к которой вернулся бы после дальних странствий и смог обнять…
Вот испытанные мною превратности судьбы, я пла́чу по своей жизни…
И слезы навернулись на глаза юноши.
Какой разительный контраст с прежним, неунывающим Фрике! Дитя Парижа, вместо того чтобы смеяться, плачет!
Эти слезы вкупе с исключительной храбростью гамена, когда он бросился спасать шлюп, растрогали обоих слушателей.
— Ну, дьяволенок, — произнес доктор, — мне пятьдесят лет, детей у меня нет, и я уже люблю тебя, как сына, раз уж ты такой сорвиголова.