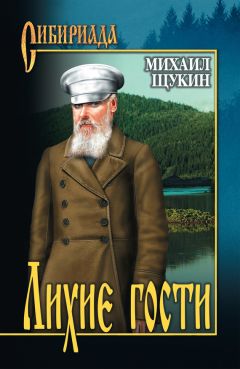Когда Егорка добрался до назначенного места, никакой записки там не нашел и решил глянуть: что в лагере делается? Подобрался поближе и увидел, что лагеря нет, а вместо него шает большим черным кругом свежее пожарище. Сломя голову Егорка кинулся к Окорокову.
И вот исправник стоял теперь здесь, посреди пожарища, оглядывался вокруг, и очень ему хотелось на ком-нибудь сорвать свою злость, которая распирала его так, будто в нутро березовый клин вбили. Но он себя сдерживал, воли чувствам не давал и только слегка хмурился, сохраняя на широком лице суровую сосредоточенность.
– Господин исправник! – донесся до него испуганный, вздрагивающий голос. – Господин исправник, гляньте, чего творится! Страсть-то какая!
Молоденький розовощекий солдатик торопливо крестился и пятился испуганно от обгоревшей и покосившейся стены бывшего дома-казармы, которая, рухнув до половины, другой половиной устояла после пожара и, одинокая, клонилась набок, осыпая на землю сажу. Окороков сдвинулся с места, подошел к солдатику:
– Чего кричишь?
Солдатик молча ткнул перед собой пальцем и попятился еще дальше, была бы его воля – убежал бы отсюда. В чистых голубых глазах его плескался неподдельный ужас: впервые в жизни видел парень такую картину.
Под накренившейся стеной аккуратно, один подле другого, были уложены трупы застреленных варнаков. Некоторые из них были в исподнем – даже одеться не успели. Здесь же, чуть сбоку, в обгоревшей одежде, с опаленными волосами, но узнаваемые, лежали Спиридон, Петр и Василий. Окороков присел перед ними на корточки, внимательно оглядел и убедился: люди его были убиты не из ружей, а зарезаны ножами, как бессловесные животины, распаханы острым железом одинаково и страшно – одним рассекающим взмахом, от уха до уха.
«Штабс-капитан Истратов, ротмистры Веденеев и Лукин», – несколько раз Окороков повторил про себя фамилии и звания погибших, словно боялся их позабыть, и лишь после этого шумно вздохнул и прошептал, донельзя приглушив свой рокочущий голос:
– На чем же вы промахнулись, друзья?
Он сразу уверился, что Цезарь раскусил опытных жандармских офицеров, поймал их на какой-то оплошности, потому и были они зарезаны.
Но что все-таки произошло здесь? Кто перестрелял разбойников? И еще с добрый десяток вопросов, ответов на которые даже не маячило.
Окороков взмахнул рукой, подзывая к себе Егорку. Когда тот с готовностью подбежал, спросил:
– Кто из них Цезарь? Кто из них Бориска?
Егорка окинул убитых быстрым взглядом, швыркнул застуженным носом и развел руками:
– Нету их здесь, ни того ни другого. И Ваньки Петли нету. Первый живодер у них на подхвате.
– А парень? Парень из Успенки?
– И Данилы тоже нету.
Окороков тяжело потоптался на месте, затем медленно прошелся вдоль лежащей шеренги убитых и отдал приказ:
– Выставить караулы, устраиваться на ночлег.
Сам же принялся обходить пожарище, старательно все осматривая, но закончился его обход ничем – даже малой зацепки, которая помогла бы объяснить произошедшее здесь, обнаружить ему не удалось. Только обугленные бревна, истоптанный и растаявший снег да обгорелые сани, оказавшиеся почему-то за пределами лагеря. На санях, видимо, было сено, и, пока оно горело, снег вытаял до самой земли.
Окороков подошел к костру, разведенному солдатами, протянул руки к огню и замер в тяжелом раздумье, даже не ощущая широкими ладонями жара от толстых бревен, которые, не успев остыть, быстро разгорелись и густо сыпали искрами.
Землю по-прежнему кропила сырая морось и угрюмо наползали потемки.
Сердито съежившись сухоньким лицом, так, что даже узенькие бакенбарды вставали дыбом, Александр Васильевич быстро писал, разбрызгивая чернила, и буквы из-под пера выходили кривые, будто встопорщенные:
«В 3-е делопроизводство. Коршуну.
Чрезвычайно недоволен. Работа ваша – из рук вон! Думайте и действуйте осмотрительней и хитрее. Гости, о которых сообщалось ранее, собираются в дорогу. Пересылаю дополнительные сведения. Принять все меры к розыску. Никаких оправданий быть не может.
А. В.»Дописал, плюхнул ручку в чернильницу, запечатал письмо в конверт, повертел его в тонких, морщинистых пальцах и стал на вид не таким сердитым: морщины разгладились, бакенбарды улеглись. Александр Васильевич положил конверт в папку и уже спокойно, негромко, себе под нос, пробормотал:
– Если с умом овес посеяли, он и через лапоть прорастет.
Вскочил с кресла, обежал вокруг стола, громко постукивая каблуками башмаков, и остановился внезапно, словно в стенку ударился. Постоял, замерев, и снова бросился к столу, разорвал только что запечатанный конверт и быстро дописал на бумажном листе:
«P. S. Всех, кто понадобится, принудить к содействию. Соответствующее распоряжение отдано».Новый конверт он запечатал еще тщательней и погладил ладонью, как гладят по головке непослушное, но любимое чадо.
За входной дверью раздался звонок, через некоторое время дверь неслышно открылась, и молодой человек с незаметным, словно стертым лицом, заглянув в кабинет, шепотом спросил:
– Заводить?
Александр Васильевич извлек из кармана жилетки круглые старинные часы на крупной серебряной цепочке, отщелкнул крышку, внимательно уставился в циферблат, словно пытался что-то сосчитать. Вдруг усмехнулся, с веселым щелчком захлопнул крышку часов и распорядился:
– Пока подержи. А через четверть часа – заводи.
Ровно через четверть часа в кабинет вошла богато одетая дама. Александр Васильевич услужливо подвинул ей стул, усадил и слегка поморщился от невидимого, но очень запашистого облака духов, которое его окутало. Дама оглядела кабинет, Александра Васильевича и томным, распевным голосом спросила:
– Чем обязана? И по какой причине я здесь оказалась?
Александр Васильевич не ответил. Из ящика стола достал исписанные листы бумаги, положил их перед дамой и коротко приказал:
– Читайте.
Дама презрительно хмыкнула, опустила глаза, и лицо ее сразу же изменилось, стало таким испуганным, словно перед ней положили не бумажные листы, а живую змею. Дочитать до конца Александр Васильевич ей не дал, отобрал бумаги, положил их на прежнее место и лишь после этого, присев в кресло, с нескрываемым любопытством стал рассматривать даму.
– Почему вы так смотрите? – не выдержала она.
– Любуюсь! Любуюсь, голубушка! В нашем сером заведении не каждый день такую красоту лицезреть приходится. Вот и растягиваю минуты удовольствия. Будь я моложе – и не таких бы комплиментов наговорил. Придумал бы нечто возвышенное, может быть, и в стихах. Но я человек старый и ворчливый, поэтому говорить будем о скушном. Все ваши похождения, как вы поняли, на этих бумажках подробно записаны. О Цезаре Белозерове знаем, об английской торговой компании, где вы служите, тоже ведаем. Теперь вы у меня послужите.