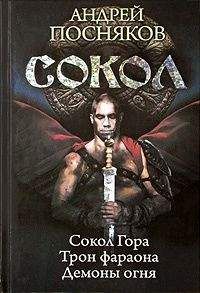Да нет… Не может быть.
Миша потряс головой и поглядел в высокое, голубое, с белыми редкими облаками небо. Улыбнулся: вот скоро Кировск покажется, шоссе, мост…
А вот и нет!
Солнце уже на закат пошло, светило золотисто-грустно, пуская узкие прощальные лучики по молочно-серебряным волнам, а ни мост, ни Кировск так и не показались! Проплыли, что ли? Да не могли! Миша ведь не дремал, глаз не сомкнул даже… Господи, да что же это такое делается-то?!
Между тем с идущей впереди — княжеской — ладьи замахали, заголосили. Стоявший на носу высокий бородач в белой полотняной рубахе — кормчий или его помощник — обернулся к гребцам, что-то быстро сказал… Разгоняя рыбью мелочь вспенили волну весла, и ладья плавно повернула к берегу… К деревне! Да-да — к деревне — три избы, точнее сказать, усадебки, пристань с лодками… или челнами? Все в таком же добротно-посконном древнерусском стиле, который, признаться, начал Михаилу надоедать… Да что там — надоедать, достало уже все! Пора, наконец, домой, в Питер… Ладно, сейчас… спросить у местных, где тут шоссе, поймать попутку…
Стали на ночлег, станом — даже князь в избе не ночевал — разбили шатер. Запалили костры — ушицу варили. Хорошее, конечно, дело, ушица, однако не до нее сейчас. Миша отошел в сторону от компании Сбыслава и — кусточками, почему-то не хотелось чтобы заметили, как он уходит — подобрался к изгороди, окружавшей обширный двор с бревенчатой избой на высокой подклети, баней и прочими хозяйственными постройками.
На высоком крыльце под вальмовой — четырехскатной — крышей, подбоченясь, стоял невысокий человек в синей рубахе, подпоясанной желтым шелковым поясом, с окладистой, рыжей с проседью бородой и в круглой кожаной шапке с опушкой из белки или какого-то другого меха. Постоял, посмотрел на небо, перекрестился и, махнув рукой, скрылся в избе.
– Эй, эй, мужчина! — закричал Михаил, да поздно уже — ушел мужик, а ворота, между прочим, оказались заперты, да еще, загремев цепью, выбрался из будки большой черный пес. Встрепенулся, зевнул во всю пасть и, недобро глянув на Мишу, угрожающе заворчал, а потом и залаял.
– Тихо, тихо, Бельмак, — раздался вдруг нежный девичий голос. — Тихо, кобелинушко, тихо… Чтой тебе надобно, добрый молодец?
Повернув голову, Миша увидел вышедшую из сарая девчонку лет, может, шестнадцати на вид. Русоволосую и довольно-таки миленькую — очень-очень даже миленькую — с синими… нет, все ж таки — с зелеными — глазами, большими такими, лучистыми… Пожалуй, даже слишком большими для такого худенького лица…
– Привет! — Михаил улыбнулся и помахал рукою. — Не подскажешь, в какой стороне шоссе?
– Что, господине?
Господи! И эта — туда же!
– Дорога, говорю, далеко ли?
– А дорога там, — девчонка махнула рукой куда-то в сторону леса. — Сразу за околицею. На Новгород, на Великий. Правда, плоха дорожица, по реке — лучше.
– Пускай хоть какая. А автобусы по этой дороге ходят? Или вообще хоть какой-нибудь транспорт?
Девчонка ничего не ответила, лишь улыбнулась и, подобрав подол, принялась выливать в стоявшее у сарая корыто крошево из увесистой деревянной кадки.
Миша мысленно повертел пальцем у виска — странная девочка. И одета более чем странно — в какое-то серое рубище из мешковины, не поймешь — то ли балахон, то ли платье. Тоже реконструкторша, мать ее ити? Или тут все так ходят? В избу зайти? Так тут кобель — еще набросится.
– Эй, девушка… Тебя звать-то как?
– Марья…
– А тут что, живешь? Или в гостях?
Девчонка неожиданно вдохнула и, поклонясь в пояс, ответила:
– Раба я. Господина Ефрема-своеземца раба.
Миша только сплюнул с досадою: поди вот, с такою, поговори! Раба!!!
– Ну, вот что, раба… До Питера далеко отсюда?
Девчонка посмотрела на Михаила, улыбнулась и, не говоря ни слова, выпустила из сарая свиней.
– Красивая девка… Нравится?
Михаил вздрогнул, обернулся — позади стоял Сбыслав и ухмылялся:
– А Ефрем-своеземец ее ругает… нерасторопна уж больно, да тоща… Будешь тут тощей, коли так кормиться! Послушай-ка, друже Мисаил… ты в кости играешь?
– Не пробовал… — осторожно отозвался Миша, чем вызвал у сына тысяцкого приступ гомерического хохота.
– Да ты чего? Совсем-совсем не пробовал?! Побожись! Ну точно — с Заволочья. Может, ты и девок не пробовал, а? Ну-ну, не обижайся, друже… А вообще, ты женат?
– Прогнал я свою жонку, — Михаил хмуро подделался под местный говор. — Надоела она мне. Разонравилась!
– Ну — ты муж!!! — Сбыслав аж крякнул от удивления. — Разонравилась — и прогнал?! Вот это по-нашему! А епископ что на это сказал?
– Попробовал бы чего вякнуть, схватил бы горя! — Мишу уже несло — а чего: всем на древнерусском пиджине изгаляться можно, а ему почему нельзя?
– Значит, прогнал, говоришь, свою старую жонку? — не скрывая восхищения, продолжал допытываться Сбыслав. — А что детушки, чады?
– Не дал Господь детушек.
– Ах, во-он оно что! Ну, значит, правильно и прогнал. Ничего, дружище, сыщем тебе в Новгороде Господине Великом невестушку, такую, чтоб очи — как окиян-море, чтоб коса — до пят, чтоб дородна была, ласкова, чтоб детишек рожала каждый год… А?! Как тебе мое слово? Погостишь у меня на усадьбе в Новгороде? Батюшка рад будет… А человеце он в Новгороде не последний!
– Погощу, уговорил, красноречивый. — Михаил усмехнулся. — Говоришь, девки в Новгороде красивые?
– Уж не как в Заволочье!
– А ты откуда знаешь, как в Заволочье? Бывал?
– Приходилось… Слушай. Что ты все на рабу пялишься: купить хочешь? Так Ефрем ее сейчас навряд ли продаст, вот, если только к зиме ближе…
– Откуда ты знаешь, что не продаст? — поддержал беседу Миша. — Главное — предложить правильную цену.
– Вот это верно, друже Мисаиле! Слушай, а ты не из гостей часом? Или — купец?
– Говорил же тебе — своеземец.
– И чего тебя из Заволочья своего в этаку даль потащило? — сын тысяцкого хитро прищурился, и Михаил сразу почувствовал, что не зря этот парень завел такую беседу, ох не зря! И пришел он за Михаилом — не в кости позвать играть, нет — чтоб поговорить без лишних ушей — так, видно.
– Не ответствуй, не надо, — оглянувшись, тихо произнес Сбыслав. — Я сам за тебя отвечу… Отойдем-ка во-он к той березине…
– Боишься, что подслушает кто?
– Так у нас речи не тайные… А все же не хотелось бы лишних ушей. Кривой Ярил — тиун Мишиничей — на тебя глаз свой единственный положил — мол, одинок, хоробр, воин славный… Похощет к собе переманить — не переманивайся, — снова оглянувшись, Сбыслав понизил голос и уже шептал яростно, явно стараясь переубедить. — У них ведь как, у Мишиничей — гладко стелют, да жестко спать! Глазом не успеешь моргнуть — обельным холопом станешь — оно те надо?