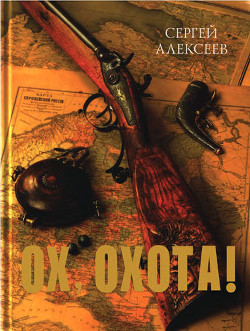спросил он Птоломея.
Тот заслонил собой гетеру:
– Летописец Каллис, которого ты приставил хранить. По твоему велению…
– Где он?
– Должно быть, почивает в своём шатре… Послушай меня, брат! Если на то не было твоей воли, я сам удавлю всех, кто к этому причастен! Но я зрел твой указ – предать огню!..
Царь его недослушал и вышел вон.
– Хочу зреть Каллисфена, – промолвил он.
Филота с пешей агемой поджидали его среди развалин – так выглядел возводимый город. Здесь же и расположился стан каравана, вернувшегося из похода, наспех разбросанного среди строительства новой Александрии, как будто на руинах. Кругом был полуобтёсанный камень, фундаменты, бесформенные основания стен, сосуды с известью, песок и щебень. Волы, ослы, рабы и надзиратели спали вповалку тут же, подстелив на худой случай кошму или циновку из верблюжьей шерсти пополам с травой. Властелин Востока сам нёс светоч, освещая путь, и всё одно запинался, наступал на тела и разбросанные руки – шатра летописца не было!
– Где Каллис? – вопрошал он, чуя слепоту. – Явите мне летописца!
Мужалый полководец, сын Пармениона, отчего-то всё время плёлся позади царя, а отроки суетились, увлекали его то вверх по угору, то вниз или вели будущими улицами города – так, словно плутали сами. Однако в тот час, как в никакой иной, властелин Востока почуял измену: Филота вместе с агемой, самые приближённые люди, сговорились и мыслили избавить историографа от неминуемой казни!
Царь плохо видел, что под ногами, но взоры телохранителей воспринимал отчетливо, и никто из них не смел смотреть в глаза, отводя очи. А первым качеством отрока, достойного войти в охрану самого царя, было умение выдерживать взгляд. Лишь распахнутые настежь юные души македонцев и их незамутненная провидческая суть позволяли им дённо и нощно быть возле державного тела, чтобы стеречь его от всяческих напастей. Основу агемы составляли отроки, отобранные Арисом в Ликее из среды учеников по своим канонам, и посему учитель называл их волчатами.
Сейчас во главе их стоял матёрый волк Филота, не простивший смерти младшего брата Никанора.
Да и сам выводок за время похода подрос и превратился в переярков. Воспитанные философом, они не скалились, не обнажали отросших клыков и даже не урчали, как их вожак стаи. Однако ещё с похода к Синему морю царь замечал, как ликейцы молча поджимают хвосты и исподлобья взирают, разваливая уши, – так делают молодые матереющие волки, склонившись над добычей.
Пожалуй, целый час эта волчья свора водила его по Александрии оксианской, верно полагая, что гнев царя притупится, ослабнет и кара последует не такой жестокой.
Они уже знали, что сотворил летописец, но никто не донёс ни на пиру свадебном, ни после пира.
Заговор был налицо!
– Если в сей же миг передо мной не встанет Каллис, – негромко и угрожающе проворчал он, – всех вас предам суду.
Сам царь никого не осуждал и не казнил, тем паче своих приближённых, сохраняя македонские обычаи. Суд вершился войском и утверждался коллегией старцев, которые презирали агему и всех приближённых.
Филота и переярков это вразумило, и они скоро отыскали убогий и аскетичный шатёр историографа.
Каллис не спал, предавшись в ночные благословенные часы страсти творения. К нему снизошла муза, шептавшая в ухо строки и рифмы: он воспевал в стихах то великое, что свершил, – сожжение священных магических книг. И вновь видел перед взором сирийскую пустыню, ночь и яркое пламя среди песков. Повитые соломой свитки бычьих шкур были торжественно уложены в пирамиду, облиты горючицей – чёрной земной живицей, которую употребляли для поджогов вражьих крепостей. Историограф сам подёес факел, и, когда пламя охватило подножие, пустынный ночной ветер вздул его и устремил ввысь.
Все, кто присутствовал при этом, отступили, ибо так нестерпим стал жар. Затем послышался утробный рёв, как если бы рядом взбугало стадо волов, и вместе с ним пирамида всколыхнулась, ожила, зашевелилась. И чудилось, в сей час из шкур восстанут двенадцать тысяч быков, могучих и круторогих! Но это внутри огненной стихии лопались обвязанные вервью и распрямлялись свитки, принимая первоначальную форму. Иногда из пылающего чрева восставали высокие протуберанцы, словно на солнце, выстреливали в небо и надолго оставляли мерцающий след. А вскоре грани пирамиды стали прогибаться, опадать, и этот великий костёр обратился в долгий огонь свечи.
В последний раз Авеста освещала землю.
Когда же плоть её исчернела и рассыпалась в прах, образовав на песке рисунок глаза, взирающего в небо, из-под чёрных ресниц угольев, словно слеза, выкатилась крупная искристая капля золота. И застыла, не изменяя цвета…
Всё это и излагал в стихах походный летописец, ибо желал подивить мир благородным деянием и тем самым приобщиться к великим подвигам героев. Никому прежде во всей Середине Земли не доводилось свершать и зреть подобное да ещё излагать стихом анналы истории.
Летописец трудился, взирая на себя, как в зеркало, в золотой слиток слезы, изронённой святыней варваров, и сетовал на то, что приставшие песчинки сирийской пустыни делают его рябым, словно переболевшим аспидной чумой, иначе именуемой оспой.
И он не слышал, как вошёл царь…
Мелькнула мысль зарезать его сразу, не слушая оправданий, и ладонь уже легла на рукоять колыча, но совсем не к месту Александр вспомнил отрочество, когда они, влекомые стихией мысли, упражнялись в стихосложении. Арис игру затеял, когда каждый придумывал строку и соединял её со строкой товарища, связывая содержимое и смысл. Происходило чудо: из самых невероятных строк и впрямь слагалась лестница, из противоречий рождались истины. Всякий раз, стоя на чужой ступени, можно было сотворить свою!
Восхищённый, царевич прибежал на башню к Старгасту и предложил на пару с ним выстроить лестницу знаний. Однако волхв, взирающий на звёзды, лишь хмуро усмехнулся:
– Мне недосуг упражняться в словоблудии. Зрю вон, комета сошла с привычного круга и летит к Земле…
Каллис был и доныне упоён стихом, а царь ещё размышлял, что сделать с ним, и не мог придумать достойной казни. Однако историограф подсказал сам.
– А, государь! – воскликнул он, на миг оторвавшись от занятий. – Найди-ка мне, превеликий, рифму к слову «звенеть»!
– Цепь, – промолвил Александр. – Цепь издаёт звон.
– По смыслу верно, – возмутился историограф. – Но где же тут рифма?
Александр собрал с походного стола листы папируса.
– Рифмы нет… Но сколько звеньев и содержания!
Агема хоть взматерела и проявляла своенравие, однако улавливала ещё внутреннюю суть слова царя, ибо всё время стояла на одной ступени. В тот час же принесли цепи, два молота и заклёпки. Летописца распяли на полу, умело возложили железные путы и чуть перестарались: руки Каллиса вздулись и посинели.
Властелин