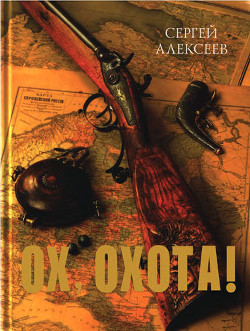Востока при свете факела прочёл его поэтический труд и позрел в воображении пылающую пирамиду в сирийской пустыне. Внук Ариса и прежде отличался образностью языка и точностью сравнений, хотя во многом подражал Гомеру. И Арис его в этом упрекал…
Папирус загорелся ярко, пожалуй, как Авеста, и, павши на распростёртого по ковру сказителя, не погас. Каллис катался и звенел цепями, стараясь сбить огонь, рычал одно лишь слово:
– Варвар! Варвар!..
Царь взял со стола всё, что осталось от приданого Барсины, – золотую лепёшку, и взвесил в ладони: все знания, бывшие на двенадцати тысячах бычьих шкур, все истины уместились в одной руке…
Перешагнув через летописца, он вышел из шатра и позрел рассвет в опрокинутом мире. Зимнее небо Бактрии на востоке разгоралось костром в виде перевёрнутой пирамиды, однако тучи заслоняли небо, и свет на землю падал отражённым, рябым, как от золотого зеркала, с песочной оспой.
И только дворец над Оксом стоял, как и был поставлен. Под его куполом, словно в поднебесье, ветер с незримого солнца вздымал горностаевый плащ и космы Роксаны. Освечённый пурпуром, её манящий образ на гульбище притягивал взор, и царь готов был взойти к ней, заречься словом, поклясться, как некогда клялся Барсине, но золотая слеза Авесты тянула к земле, и сердце искало в тот час не любви, но беспощадной мести!
Оставив свиту, он вошёл в казарму царских гетайров и разбудил Клита Чёрного, который мирно почивал с молодой женой. Полководцу довольно было одного взора, чтобы изведать прыщущий гневом нрав Александра.
– Предупреждал тебя, государь! – возвеселился он. – Отпрыск Пармениона учинил заговор! Всем македонцам ведомо, и даже наёмные персы об этом толкуют и ждут часа, чтобы ударить в спину.
– Подними гетайров, – распорядился царь. – Филоту и всю агему забить в кандалы. Предать следствию, пыткам и суду войска. Каков будет вердикт, такой исполню.
– Давно бы так! А что сотворить с Птоломеем?
– Пусть тешится с гетерой…
И тут полководец открыл свой порванный до ушей и щербатый рот.
– Государь! Птоломей, а вкупе с ним Каллис и гетера лишили тебя приданого! Они спалили то, что ты берёг пуще зеницы ока!
– Когда ты узнал об этом?
– Ещё на свадьбе!
– Почему не донёс?
– Науку помню! – осклабился воевода. – Не захотел лишать тебя радости праздника. Да ты бы и не внял, ибо никого не видел, взирая на Роксану. Мыслил известить наутро, но ты сам пришёл… Дозволь взять в железа и Птоломея?
Клит намеревался единым духом одолеть всех соперников и остаться одному возле властелина Востока. Когда-то подобным образом он было устремился встать рядом с Филиппом и оговорил приближённых. По приговору суда на молодого гетайра набросили аркан, забив верёвку в уста, плеснули скипидаром коню под хвост и волочили так по каменистому полю добрый десяток стадий. Будучи в крови и лохмотьях, он вскочил с земли, сорвал петлю и засмеялся. Рок сохранил его, наградив рваным, щербатым ртом да чернотой лица – судить вдругорядь претили боги. Зато теперь он видом своим до смерти устрашал супостата и был непобедим.
– Брат мой вскормлён пастухом, – многозначительно молвил Александр. – Я ему верю.
– Возьми под следствие Таис Афинскую! – нашёптывал Клит. – Ещё в Персеполе позрел, она умышленно подожгла храм. Дабы спалить приданое! Она не знала, что свитки вывезли и поместили в горную пасть!
– И я подозревал коварство, – признался царь. – И учинил оргии с ней, чтобы выдала себя…
– Отчего же не хочешь наказать её?
Властелин Востока рассудил философски:
– Я не казню жён. Тем паче таких прекрасных и мудрых. Она напоминает мне возлюбленную моей юности. И всякий шаг гетеры сейчас предсказуем… А казни её, и скоро явится иная, с неведомыми помыслами и нравом. Пусть уж лучше будет одна Таис.
Более опытный Филота не сопротивлялся и сдался в руки гетайров, но кое-кто из матереющих переярков, чуя неотвратимость кары, показали клыки. Впервые за весь поход властелин Востока испытал позор, взирая на схватки тех, кто был приближен и обласкан. Агему повязали, забили в персидские колодки и поместили в узилище вместе с Каллисом, оставив в неведении на долгое время.
Клит Чёрный, некогда сам вкусивший пытки и следствие, со страстью принялся выведывать правду у своего соперника. Все иные полководцы тихо роптали, взирая, как мучают Филоту, иссякая бичами, ибо многие были дружны с ним либо с его отцом Парменионом, который управлял Мидией. Однако когда его старший сын под пытками признался, что замыслил заговор супротив Александра, дабы отомстить за сожженного живьём в Персеполе брата Никанора, всякий ропот стих. По ветхому ещё, варварскому обычаю македонцев, воля царя была священной, как воля богов, и никому из смертных не следовало знать истинных мотивов его поступков. Большая часть полководцев ещё служила Филиппу, и тот приучил не вникать в тонкости царских дел, особенно касающихся дипломатии, искусства взаимоотношений с Элладой, Дельфийским оракулом и Коринфским союзом. От воевод требовался иной талант – искусство побеждать супостата на бранном поле, отвага и преданность.
Но этим признанием царь не удовлетворился и велел Клиту пытать, пока не назовёт имени того, кто подвиг воеводу восстать супротив властелина Востока. Александр ждал, что, не выдержав бича и калёного железа, Филота назовёт имя своего отца, Пармениона. К чести своей, полководец не искусился призрачными надеждами выжить либо спасти родителя и стойко молчал. По вердикту суда войска и обычаю македонскому, полководца казнили как воина, вонзив в сердце дротик. И сразу же после этого Клит Чёрный послал в Мидию тайного убийцу, который зарезал Пармениона, опасаясь теперь мести отца.
Покончив с одним заговором, властелин Востока принялся за другой, дабы очистить войско от накопившейся скверны, как от едкой соляной пыли, что разъедала глаза, уста и ноги в походе к Синему морю. Агему пытали вне стен возводимого города, чтобы Роксана не слышала отроческих воплей и стонов. Те, кто оберегал державного монарха, кто горделиво стоял рядом, теперь лежали у ног его, под скуфскими бичами, либо возвышались над ним, распятые на крестах. И будь то положен наземь или возвышен, мало кто выдержал пыток: сначала отроки признавались, будто учинили заговор по своей охоте и юному недоразумению. Де-мол, взыграла спесь эллинского высокородия и стало им несносно взирать на императора, который всё более погружается в пучину варварства. Поход же македонцев и вовсе превращается в бессмысленное блуждание по пустыням Востока – часто вспоминали бросок к Синему морю, погубивший ратников более, чем их пало в битве при Гавгамелах. Агеме претило, что царь объявил невестой старшую дочь Дария и ведёт с ней тайные беседы,