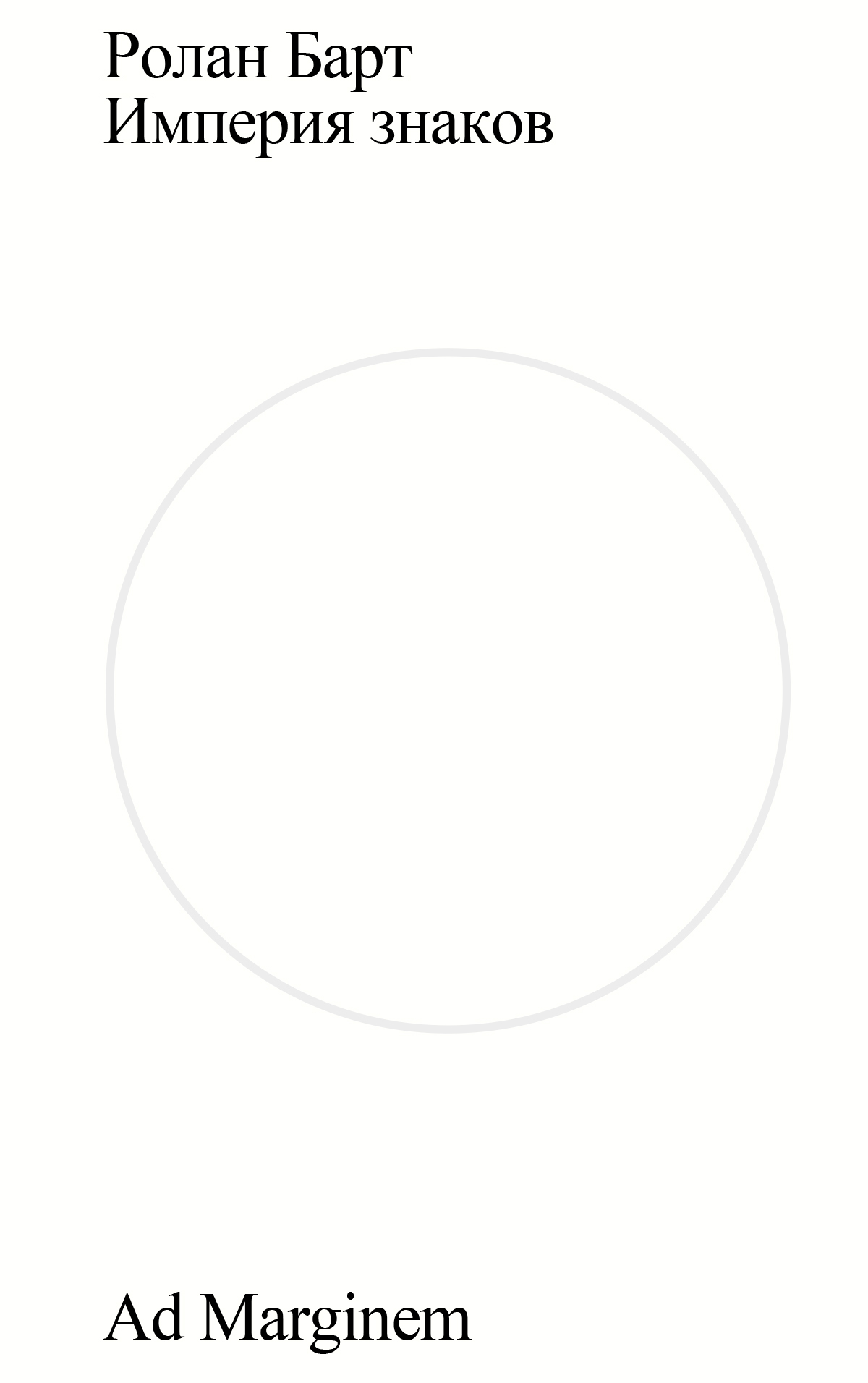с услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать себя у него как дома, принимая вас со всеми вашими привязанностями, ценностями и символами; это «отсутствие» хайку (в том смысле, какой имеется в виду, когда говорят об отвлеченном сознании, а не об уехавшем хозяине) чревато соблазном и падением, одним словом, сильным вожделением смысла. Этот самый смысл, ценный, жизненный и желанный, как счастливая фортуна (то есть случай и деньги), хайку, свободное от метрических правил (по крайней мере в переводах), поставляет нам в изобилии, по сниженной цене и по заказу; можно сказать, что в хайку символ, метафора, мораль не стоят почти ничего – от силы несколько слов, картинка, ощущение, – там, где нашей литературе потребуется целая развернутая поэма или же (в коротких жанрах) отточенная мысль, одним словом – долгий риторический труд. Похоже, хайку предоставляет Западу права, в которых ему отказывает его собственная литература, а также удобства, на которые она скупится. Вы имеете право, – говорит хайку, – быть пустым, кратким, банальным; просто замкните то, что вы видите и чувствуете, узким горизонтом слов, – и вы увлечете; у вас есть право самим (и исходя из себя самих) обосновать собственный закон; ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, высвободит символ, вы будете глубоким; малыми средствами вы достигнете
полноты письма.
Огурец и два баклажана буквально воплощают трехстишие хайку.
Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной религии, навязывающей посвящение целым народам; в самом деле, объекты языка (созданные при участии речи) подобны новообращенным: первичный смысл языка метонимически апеллирует ко вторичному смыслу – смыслу дискурса, – и эта апелляция имеет ценность всеобщего принуждения. У нас есть два способа избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы систематически подчиняем высказывание (в остервенелом затушевывании всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту языка) тому или иному из имеющихся в нем значений (или же тому или иному производству знака): символ или рассуждение, метафора или силлогизм. Хайку с его простыми, расхожими, одним словом, приемлемыми (как говорят лингвисты) выражениями перетягивается в ту или иную из этих двух смысловых империй. Поскольку оно является «стихотворением», его помещают в ту часть общего кода эмоций, которую называют «лирическим переживанием» (у нас Поэзия обычно связывается с чем-то «расплывчатым», «невыразимым», «чувствительным», словом, с классом неклассифицируемых ощущений); обычно говорят о «насыщенном переживании», о «запечатлении особо значимого мгновения» и особенно – о «молчании» (которое всегда является для нас знаком полноты языка). Если кто-нибудь (Дзёко [35]) пишет:
Сколько людей
Под осенним дождем
Прошли по мосту Сэта! [36] —
то встает образ убегающего времени. А когда другой (Басё) пишет [37]:
Иду по тропинке в гору.
О! как чудесно!
Фиалка! [38] —
то объясняют [39], что это он встретил буддийского отшельника, ибо фиалка считается «цветком добродетели»; и так далее. Не остается ни одной черты, которую западный комментатор не нагрузил бы символическим смыслом. Или еще во что бы то ни стало хотят усмотреть в трехстишии хайку (три строки: из пяти, семи и еще пяти слогов) схему силлогизма (две посылки и заключение):
Старая заводь:
В нее прыгает лягушка:
О! шум воды [40].
(в данном конкретном силлогизме заключение удается с трудом: чтобы он совершился, нужно, чтобы более слабая посылка впрыгивала в более сильную). Разумеется, если отказаться от метафор и силлогизмов, комментарий становится невозможным: говорить о хайку значит просто повторять его. Что и делает – неосознанно – один из комментаторов Басё:
Уже четыре часа…
Девять раз я вставал
Чтобы полюбоваться луной [41].
«Луна настолько прекрасна, говорит он, что поэт встает снова и снова, чтобы созерцать ее из своего окна». У нас подобные интерпретации – всякого рода расшифровки, тавтологии, формализации, стремящиеся проникнуть в смысл, взломать его, – всегда неизбежно бьют мимо хайку, тогда как практикующий Дзэн без конца твердит абсурдный коан до тех пор, пока смысл не выпадет, как зуб; цель нашего чтения – подвесить язык, а не спровоцировать его: между тем необходимость и сложность последнего, кажется, как раз Басё и осознавал:
Достоин восхищенья тот,
Кто не подумает: «Жизнь быстротечна»
При виде вспышки! [42]
Весь Дзэн направлен на борьбу с недоброкачественным смыслом. Известно, что буддизму удается избежать фатального пути, коим следует всякое утверждение или отрицание, ибо он рекомендует всегда избегать четырех возможных утверждений: это есть А – это не есть А – это есть одновременно и А, и не-А – это не есть ни А, ни не-А. Ведь эта четверичная возможность соответствует той совершенной парадигме, которую создала структурная лингвистика (А – не-А – ни А, ни не-А [нулевая степень] – А и не-А [сложная степень]); иначе говоря, буддийский путь – это путь преграждения смысла: схватывание значения, а именно парадигма, становится невозможной. Когда Шестой патриарх [43] дает указания относительно мондо [44], упражнения вопроса – ответа, он советует – дабы запутать парадигматику – в момент, когда нечто сказано, обратиться к чему-то противоположному («Если вас спрашивают о бытии, отвечайте небытием. Если вас спрашивают о не-бытии, отвечайте бытием. Если вас спрашивают об обычном человеке, заводите речь о мудреце, и т. д.») – так, чтобы выставить нелепыми парадигматическую замкнутость и механический характер смысла. Само основание знака, сам принцип классификации (майя [45]) подлежит упразднению (посредством ментальной техники, точность, выдержанность и утонченность которой показывают, до какой степени трудным восточная мысль считает неисполнение смысла); в отличие от классифицирования как такового, то есть посредством языка, хайку стремится к достижению стертого языка, в напластованиях которого не оседает ничего, что можно было бы назвать «наслоением» символов (что неизбежно случается в нашей поэзии). Когда говорят, что шум прыгающей лягушки пробудил Басё к истине Дзэн, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком западной манерой выражаться), что Басё нашел в этом звуке не какой-то мотив «озарения» или некоей символической гиперестезии, а, скорее, предел языка: существует момент, когда язык прерывается (это состояние достигается посредством усиленных упражнений), как раз в этом беззвучном разрыве возникает как истина Дзэн, так и краткая, пустая форма хайку. Полный отказ от «распаковывания»; поэтому «прервать язык» не значит погрузиться в некую гнетущую, значительную, глубокую, таинственную тишину или же