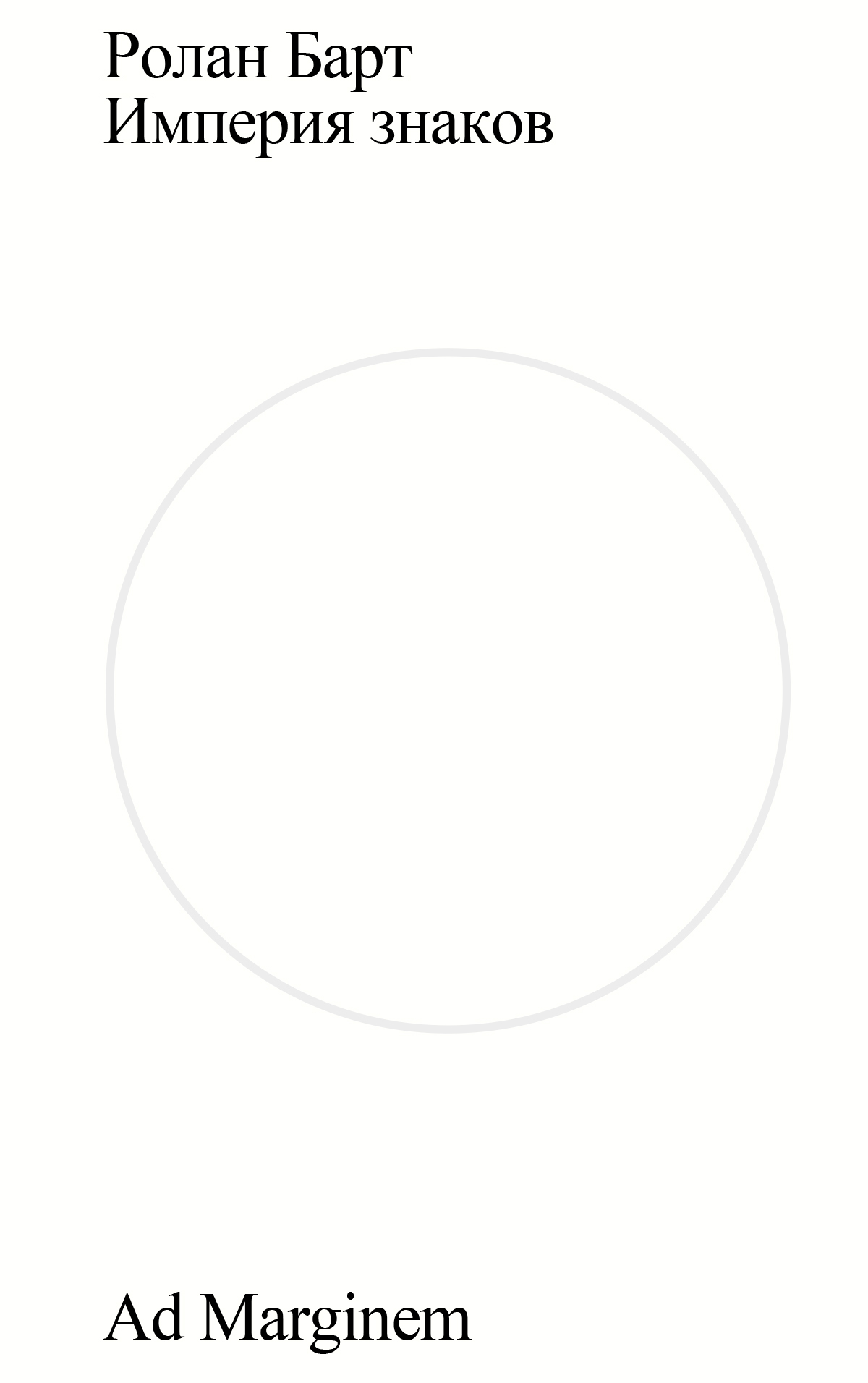освободить душу для встречи с Богом (в Дзэн нет Бога); то, о чем идет речь, не должно быть понятно ни из речи, ни в конце речи; то, о чем речь, принципиально
непрозрачно, можно лишь повторять это до бесконечности; именно это и рекомендуется монаху, который работает над
коаном (или же притчей, предложенной ему учителем): не нужно ни разгадывать его, как если бы у него был скрытый смысл, ни проникаться его абсурдностью (абсурдность – это все еще смысл), нужно твердить его до тех пор, «пока зуб не выпадет». Таким образом, весь Дзэн, литературным ответвлением которого является искусство хайкай [46], предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы
остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим (быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать), опорожнить, притупить, иссушить ту неудержимую болтовню, которой предается душа; и, быть может, то, что в Дзэн называется
сатори и что на Западе могут перевести лишь приблизительными христианскими соответствиями (
просветление, откровение, прозрение), есть лишь тревожная подвешенность языка, белизна, стирающая в нас господство Кодов, слом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. И если это состояние
не-языка предстает освобождением, то потому, что в буддийском опыте размножение мысли (мысль о мысли) или, если угодно, бесконечное прибавление избыточных означаемых – круг, моделью и носителем которого является сам язык, – предстает как препятствие: уничтожение же вторичной мысли, напротив, разрывает дурную бесконечность языка [47]. Похоже, во всех этих экспериментах речь идет не о том, чтобы подавить язык таинственной тишиной неска́занного, но о том, чтобы
познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов атакуется сам символ как семантическая операция.
В хайку ограничение языка является предметом непостижимой для нас заботы, ибо цель не в том, чтобы быть лаконичным (то есть, сократить означающее, не уменьшая плотности означаемого), но, напротив, в том, чтобы, воздействуя на само основание смысла, убедиться, что этот смысл не растекается, не замыкается в себе, не упрощается, не отрывается и не расплывается в бесконечности метафор, в сферах символического. Краткость хайку не является формальной; хайку не есть некая богатая мысль, сведенная к краткой форме, оно есть краткое событие, которое вмиг находит единственно возможную форму выражения. Мера в языке – то, что наименее свойственно Западу: не то чтобы его язык был слишком долгим или кратким, но вся его риторика накладывает на него обязательство делать означающее и означаемое несоответствующими друг другу – либо «отметая» второе под напором болтовни первого, либо «углубляя» форму в направлении скрытого содержания. В точности хайку (которое отнюдь не является точным изображением действительности, но есть как раз соответствие означающего означаемому, устранение полей, помарок и промежутков, обычно пронизывающих семантическое отношение)есть, по-видимому, что-то музыкальное (что-то от музыки смыслов, а не звуков): в хайку есть та же чистота, сферичность и пустота, что и в музыкальной ноте; возможно, именно поэтому хайку необходимо повторять дважды, как эхо; проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз значит привязать смысл к удивлению, к точке, к внезапному совершенству; произнести ее множество раз значит постулировать, что смысл еще необходимо раскрыть, намекнуть на глубину; между тем и другим – эхо, не однократное, но и не слишком раскатистое, не что иное как черта под пустотою смысла.
Западное искусство превращает «впечатление» в описание. Хайку же никогда не описывает: это искусство антидескриптивно, ибо всякое состояние вещи оно моментально, неустанно и победоносно превращает в хрупкую сущность явления: это мгновение – в буквальном смысле «неуловимое» – когда вещь, которая уже является всего лишь языком, начинает превращаться в речь, переходить из одного языка в другой – и предстает нам как воспоминание об этом будущем, являясь при этом уже прошедшей. В хайку существенно отнюдь не только событие
(Увидел первый снег.
И этим утром
Лицо умыть забыл) [48],
но также и то, что, как нам кажется, является скорее призванием живописи, небольших картинок, каких много в японском искусстве. Так, например, хайку Сики [49]:
С теленком на борту
Кораблик небольшой плывет по речке
Сквозь дождь вечерний [50].
становится своего рода абсолютной интонацией (подобно Дзэну, принимающему таким образом всякую вещь, пусть даже ничтожную), складкой, которая легким и точным движением ложится на страницу жизни, в ткань языка. Западному жанру описания в духовном плане соответствует созерцание, методическое воображение форм, присущих божественности, или же эпизодов из евангельского текста (у Игнатия Лойолы опыт созерцания по существу своему имеет описательный характер); хайку же, напротив, произносится на фоне метафизики без бога и субъекта и соответствует буддистскому Му и дзэнскому сатори, которые отнюдь не являются озаряющим нисхождением Бога, но являются «пробуждением перед фактом», схватыванием вещи как события, а не как субстанции, достижением того изначального предела языка, который граничит с беззвучием (впрочем, ретроспективным и восстановленным беззвучием) самого случая (что относится скорее к языку, нежели к субъекту).

Дзэнский сад: «ни цветов, ничего: где человек? В расположении камней, в следах от граблей, в надписях».
С одной стороны, количество и распространенность хайку, а с другой – краткость и замкнутость в себе каждого из них, похоже, делят и упорядочивают мир до бесконечности, открывают пространство чистых фрагментов, разлетающейся пыли событий, которую ничто не может ни собрать, ни выстроить, ни направить, ни завершить в силу того, что само значение изымается. Ибо время хайку лишено субъекта: в чтении нет другого меня, кроме всей совокупности хайку, где это я бесконечно преломляется и есть не более чем место чтения. Согласно образу, предложенному доктриной Хуаянь [51], можно было бы сказать, что коллективное тело хайку – жемчужная сеть, где в каждой жемчужине отражаются все остальные и так далее до бесконечности, где нет возможности нащупать центр, первичный источник излучения (для нас же наиболее близким образом, воплощающим это изобилие, не имеющее ни двигателя, ни опоры, эту игру вспышек, не имеющую начала, будет словарь, в котором каждое слово определяется только с помощью других слов). На Западе зеркало является по сути своей нарциссическим объектом; человек не мыслит зеркало иначе, нежели как предмет, который необходим ему, чтобы смотреть на себя; на Востоке же зеркало, похоже, пусто: оно символически отражает пустоту самого символа («Ум совершенного человека, говорит даос, подобен зеркалу. Он ничего не хватает, но ничего