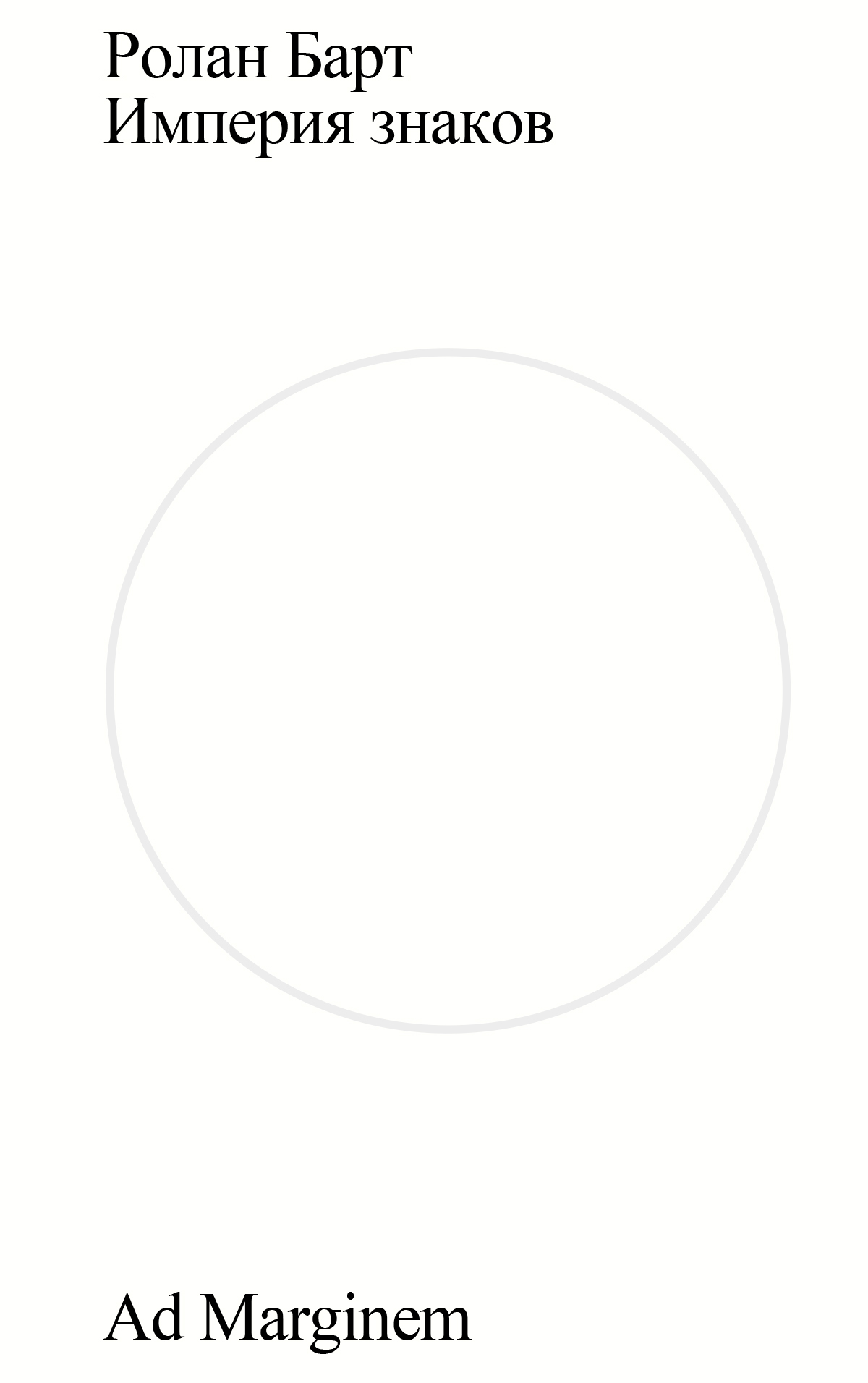и не отталкивает. Он принимает, но не удерживает»: зеркало ловит лишь другие зеркала, и это бесконечное отражение есть сама пустота [которая, не будем забывать, есть сама форма]). Таким образом, хайку заставляет нас вспомнить о том, чего с нами никогда и не случалось; в нем мы
узнаём повторение без начала, событие без причины, память без личности, речь без швартовов.
То, что я говорю о хайку, можно сказать обо всем, что происходит в той стране, которая здесь называется Японией. Ибо там – на улице, в баре, поезде или магазине – всегда что-то случается (advient). Это что-то – этимологически уже приключение (aventure) – является совершенно незначительным: нелепость одежды, анахронизм культуры, свобода поведения, алогизм путеводителя и т. д. Попытаться обозреть эти события – взяться за сизифов труд, ибо они могут промелькнуть лишь в тот момент, когда их считывают, посреди живого письма самой улицы; кроме того, западный человек не смог бы озвучить их иначе, чем нагрузив их смыслом собственной отстраненности: следовало бы превратить их в хайку, в язык, который нам недоступен. Всё, что можно здесь добавить, так это то, что в этих незначительных происшествиях (которые, накапливаясь в течение дня, приводят к своего рода эротическому опьянению) нет ничего ни живописного (японская живописность нам безразлична, ибо никак не связана с тем, что составляет особенность Японии, с ее современностью), ни романического (они никогда не поддаются той болтовне, что мигом превратила бы их в рассказы или в описания); то, что они позволяют прочесть (ибо я здесь читатель, а не посетитель), так это точную линию моего пути – без следа, обочин и отклонений. Множество незначительных деталей (от одежды до улыбки), которые у нас, вследствие неискоренимого нарциссизма западного человека, – не более чем знаки напыщенной самоуверенности, у японцев становятся просто способом пройти или миновать какую-нибудь неожиданность на улице: ибо уверенность и независимость жеста здесь связаны не с самоутверждением (или «самодостаточностью»), но лишь с графическим способом бытия; таким образом, спектакль японской улицы (вообще, любого общественного места), волнующее порождение многовековой эстетики, лишенной какой бы то ни было вульгарности, никогда не подчиняется театральности (истерии) тел, но подчинен раз и навсегда тому письму alla prima, для которого одинаково невозможны и набросок, и сожаление, и маневры, и исправления, ибо сама линия освобождается от стремления пишущего создать о себе выгодное впечатление; она не выражает что-либо, но просто позволяет быть. «Раз идешь – так иди, – говорит дзэнский наставник, – а сел – так сиди. Главное – не дергайся!»: кажется, именно об этом по-своему свидетельствуют молодой велосипедист, держащий в высоко поднятой руке поднос с плошками, или девушка, которая склоняется перед идущими к эскалатору на выход клиентами магазина в столь глубоком, столь подчиненном ритуалу поклоне, что он теряет всякую услужливость, или игрок в Патинко, заправляющий, проталкивающий и получающий свои шарики тремя чередующимися жестами, сама координация которых представляет собой рисунок, или денди в кафе, который отработанным хлопком (резко, по-мужски) срывает целлофановую пленку с теплого полотенца, которым он вытрет руки, прежде чем выпить свою кока-колу: все эти случаи и образуют материю хайку.
Хайку занимается исключением смысла за счет прозрачности речи (в отличие от западного искусства, которое избавляется от смысла, делая речь непонятной), поэтому хайку не кажется нам ни эксцентричным, ни банальным, оно напоминает всё и ничего: оно легко читается, кажется нам простым, близким, хорошо знакомым, сочным, изысканным, «поэтичным» – словом, полностью удовлетворяющим набору успокоительных определений; но, не имея при этом значительного смысла, оно нам всё равно не дается и в конце концов теряет все те прилагательные, которые окружали его минуту назад, и впадает в состояние смысловой подвешенности, которая кажется нам наиболее странной, ибо она делает невозможным самое обычное упражнение нашей речи, а именно комментарий. Что можно сказать об этом:
Весенний бриз.
Лодочник потягивает трубку [52].
Или вот об этом:
Полная луна,
На татами
Тень от сосны [53].
Или же вот об этом:
В хижине рыбака
Запах сушеной рыбы
И жара [54].
Или еще (но ни в коем случае не «наконец», ибо примеры здесь могут быть бесконечны):
Дует зимний ветер.
Мерцают
Кошачьи глаза [55].
Подобные черты (это слово очень подходит хайку, которое является чем-то вроде легкого надреза во времени) составляют то, что можно было бы назвать «видением без комментариев». Это видение (слово, которое остается еще слишком западным) в основе своей является совершенно устраняющим; однако уничтожается не собственно смысл, но сама идея целесообразности; хайку не подходит ни для одного из возможных назначений литературы (которые и так ничего не стоят): как, ничего особенного не означая (что достигается посредством техники остановки смысла), оно могло бы научать, выражать или развлекать? И хотя некоторые школы Дзэн сохраняют практику сидячей медитации как упражнение, нацеленное на достижение буддоподобия, другие отказываются приписывать ей даже и такую цель (на первый взгляд, чрезвычайно важную): нужно сидеть, потому что «раз уж сел – так сиди». Возможно, и хайку (как и бесчисленные графические жесты, которыми означена самая современная, самая социальная жизнь Японии) пишут из тех же соображений: «раз уж пишешь – так пиши!»
В хайку отсутствуют две фундаментальные черты нашей (тысячелетней) классической литературы: во-первых, описание (трубка лодочника, тень сосны, запах рыбы, зимний ветер здесь не описываются, то есть не украшаются разного рода значениями или моралью, которые, на правах знаков, вовлекаются в дело раскрытия истины или чувства: реальности отказано в смысле; более того, реальное лишено даже смысла реальности); во-вторых, определение; оно не только переводится в жест, пусть даже графический, но возводится к своеобразному эксцентричному распадению объекта, как это прекрасно выражено в дзэнской притче о том, как наставник решает, кого наградить за ответ на вопрос (что такое веер?) – не того, кто проиллюстрировал ответ функциональным жестом (раскрыть веер), но того, кто изобрел целую цепочку побочных действий (сложить веер, почесать им шею, вновь открыть, положить на него сласть и преподнести учителю). Не описывая и не определяя, хайку (так я буду называть в конечном счете всякую краткую черту, всякое событие японской жизни, каким оно предстает моему чтению) истончается, сводясь в конце концов к одному лишь чистому указанию. Вот это, вот как, вот так – говорит хайку. Или, еще лучше: так! – говорит оно мгновенной и